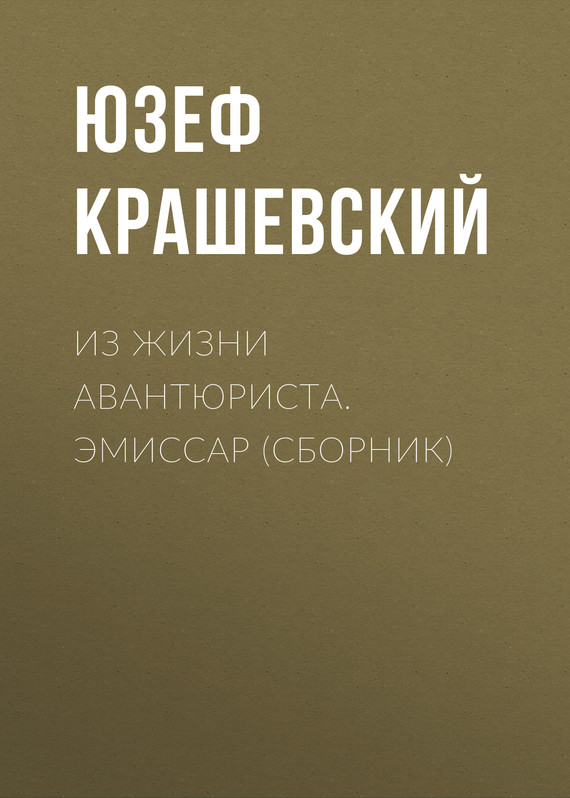было двести червонных злотых уже спрятал в карман, был единственным наследником, отдали ему для распоряжения убогое наследство – пять тысяч долга, то золото и немного книг… были всем наследством.
– Я и этого не ожидал, – сказал майор.
Президент стоял молчащий и смешанный. Ему подобало уйти, а боялся ещё… Наступал вечер, когда, наконец, он попрощался с паном майором и с кислой миной, потеряв весь день, вернулся разочарованный.
Ещё хуже было с ксендзем Стружкой, который с уверенностью знал о депозите, а доискаться его не мог. Майор объявил, что движимость, как человек небогатый, он должен продать…
Когда все вышли, каноник остался с ним один. Бедный стонал.
– А! Боже мой! Боже! – воскликнул он, ломая руки. – Когда кто, как я, слышал из тех достойных уст старца с тревогой смерти произнесённые слова: «Возьми, возьми эту тяжесть от меня, чтобы мне бременем не лежала на душе!» – а потом собственную ошибку хочет исправить и ищет, ищет напрасно, хочется плакать кровавыми слезами. Я скажу вам, пан майор, этот депозит тут должен быть, он тут есть!
– А, ну очень верится – но где? Где? Мы всё обыскали…
Павел стоял также грустный вдалеке у порога.
– Уж прошу вас, – отозвался он, – никто не знал лучше обычаев и привычек ксендза-прелата, как я, потому что он от меня никаких тайн не имел. Расходные деньги он клал в бюро, шкатулку лет шесть, может, никогда не доставал. В последнее время мало что и брал.
– А не припомнишь, – подхватил Стружка, – той ночи, когда его, больного уже, вызвали к президентше и когда потом вернулся, не привёз ли что с собой? Где спрятал?
Павел задумался.
– Как сегодня помню, – ответил он, – великая была беда с тем путешествием. Ездил с ним ксендз Лацкий, который вёз святое причастие и масло. Мы должны были прелата в карету вдвоём сажать и то ещё стонал. Он провёл там весь день, назавтра уже добрым сумраком вернулся… Подождите, господа… Ага! Когда заехал экипаж, я сбежал вниз… мы ввели его страшно ослабленного по лестнице. Он отдохнул у порога, потом в первом покое… потом вошёл вот сюда… опёрся на столик…
А! Подождите, господа! Да! Да! Достал, правда, из одежды приличную стопку запечатанных бумаг и положил вот сюда – на столик. Я посадил его в кресло. Он велел приготовить ему чай… уже никаких бумаг не было, тогда я бы запомнил. В шкатулку их не прятал, потому что сам даже достать бы её не мог, в бюро также нет, потому что ключ от бюро оставил мне на случай, если бы там дольше должен был пробыть, чтобы достал оттуда бумаги и прислал.
– Но тут никакого больше тайника нет! – воскликнул немного вышедший из терпения майор. – Что бы стало с бумагами!
Павел пожал плечами, раскрыл руки и сказал почти гневно:
– Уж всё же я их не забрал!
– А никому это в голову не придёт, – усмехнулся Стружка, – когда-нибудь это найдётся, может, через сто лет, когда уже ни к чему не пригодится.
Майор закурил трубку.
– Мой каноник, – сказал он, держа его за руку, – помогите мне избавиться от этой движимости, я хотел бы домой вернуться. Что мы с этим сделаем? Продать бы это скопом… или что? А нет, то хоть продать с аукциона. На память себе сохраню драгоценности. Из книжек – только один бревиарий, на котором молился покойник… остальное продайте, прошу. Не буду дорожить… лишь бы сколько-нибудь грошей приплыло, чтобы стоимость похорон оплатить.
– Об этом уже завтра подумаем, – сказал ксендз Стружка, – не великие это вещи и не трудные.
– А пан Павел, если моего деревенского крупника не боится, прошу со мной в Карчовку… будем вместе лучшие времена вспоминать.
Павел до ног ему поклонился.
– Не презираю я милость пана майора, но человек к этому костёлу и к этим камням прирос… трудно на старость оторваться. Пусть бы тут уж и кости положил, – вздохнул старик и вытер слёзы.
* * *
Спустя несколько недель после описанных событий снова был вечер у президента, а так как там всегда гостей хватало, и в этот день салон в восемь часов наполнился. Согласно неизменной формулы, хозяйка всегда сидела на том же месте, хотя имела другое платье и не менее аппетитное; хозяин стоял посередине покоя, чтобы быть готовым к приветствию гостей. Были это по большей части старые знакомые и приятели; в кругу дам, одетая в чёрное, сидела задумчивая пани докторова, равнодушная и кажущаяся не придающей большого значения тому, что делалось вокруг неё. Иногда только она украдкой поглядывала то на хозяина, то на хозяйку и исподлобья следила за выражением их лиц. Для менее знакомых не потеряли они в этот день ни обычного покоя, ни благодарности, улыбались холодно и вежливо, не давая друг другу заглянуть в глубину души. Только опытное око старой знакомой могло заметить в президенте некоторое нетерпение, которое выдавалось невольными движениями и блеском глаз, полных гнева, а в президентше – повышенной гордостью и напущенным величием, напоминающим праведный гнев той птицы, которая, чем больше гневается, тем шире распускает крылья. Что-то было в воздухе такого, о чём говорить не позволяло приличие и что обременяло камнем. Говорили о вещах нейтральных и в способах их разбора чувствовалась пылкость, кое-где выдаваемая, которая теперь проходит во всё, чего коснулась. Вечер проходил согласно программе, сперва один разговор около канапе и овального стола в кругу президентши, другой – в окружении президента среди салона. Потом подали чай, для которого все сели, где кто мог, наконец, в другом салоне – немного музыки, а для играющих – два столика виста. Президент не был большим поклонником виста, играл только в чужих домах, потому что это освобождало его иногда от обременительного разговора – у себя дома, как хозяин, не садился никогда, прохаживался и развлекал тех, которые не играли, либо притворялся, что слушает музыку, которой не любил, не понимал.
В минуты, когда всё сложилось согласно надлежащему порядку, а президент с руками, засунутыми под фрак, беспокойно-задумчивый, прохаживался по салону, докторова, которая также не заняла места, медленно и якобы случайно приблизилась к нему. Очень любезный с ней, президент, однако, не мог утаить того, что её не любил – а чем менее любил, тем паче старался показывать себя более любезным.
– Пани, вижу, вы, как и я, не очень музыкальны? – спросил он, останавливаясь.
– Напротив, я люблю музыку, но когда расположена к её слушанию, что мне не всегда выдаётся, – сказала докторова.
– Она мне не доставляет удовольствия, а жестоко действует на нервы, – отозвался президент, – раздражает.
Поглядели друг на друга молча. Действительно, хозяин с трудом подавил явное нетерпение.
– Лето в нашем городке нестерпимо, – добавил он, – я предлагал