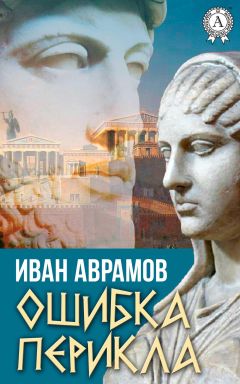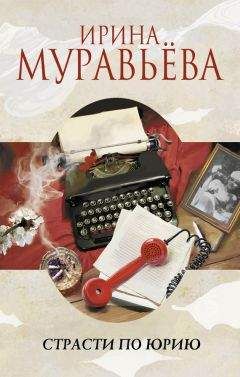«Мелант показал коготки, — думал Сострат. — Я его, пожалуй, недооценил. Кому захочется так легко расстаться с золотом? Но врага надо дожать. И следующим визитом я обрадую его не через два дня, а завтра. Припугну, что о его проделках осведомлен не только я, но и еще кое-кто».
— Да, почтенный Мелант, завтра из машины выскочит бог,[95]— вслух произнес Сострат. — Завтра ты отдашь мне уже не двенадцать, а двадцать статеров. Иначе потеряешь все…
На небе проглянул призрачный лик Селены, молочным светом залил придорожные кусты и деревья. Сострат, потирая ушибленный локоть, ускорил шаг.
В темнице холодно и сыро, от камышового тюфяка в углу исходит затхлый запах. Фидий больше всего мается по ночам — рванье, которое служит ему одеялом, совсем не согревает. Особенно мерзнет лысая голова, он охватывает ее ладонями, как женщина, причитающая на похоронах, однако это спасает мало — очень скоро руки затекают и их хочется сложить на груди либо безвольно вытянуть вдоль туловища. Фидий пытается натянуть ветхую дерюгу на голову, но тогда зябнут ноги, а это еще хуже.
Такая же лысая голова была у великого, всегда сумрачного Эсхила, которого Фидий знавал в молодости. Сколько же лет тогда было драматургу? За шестьдесят, как сейчас Фидию. Странно, но Эсхил никогда не улыбался. Может, потому, что постоянно размышлял о вине и возмездии, а эти вещи мало располагают к улыбке. Возмездие настигает Клитемнестру, убившую мужа своего Агамемнона. Жестоко карает Прометея, из жалости к людям похитившего божественный огонь, всемогущий Зевс. А Афины кажутся Эсхилу средоточием справедливости — это как нельзя прозрачнее явствует из «Эвменид», его последней трагедии. Теперь вот силу возмездия испытал на своей шкуре и сам Фидий. Только ли на самом деле он заслужил эту кару?
Да, Эсхил был лыс, что дало повод некоторым острословам поупражняться на сей счет уже после его смерти. Паривший высоко в небе орел с черепахой в когтях перепутал огромную лысину Эсхила со скалой, о которую намеревался разбить добычу. Черепаха упала на голову драматурга и соскользнула наземь, а Зевсова птица тюкнула Эсхила по сверкающему темени, после чего тот и переселился в Аид. Интересно, что сочинят когда-нибудь про самого Фидия, а еще позже — про Сократа, который теряет волосы не по дням, а по часам?
Фидий нерадостно потянулся, потом поудобнее уселся на тюфяке, поджав под себя скрещенные ноги. По утрам от холода, от жесткого ложа да, наверное, и от возраста всегда ломило кости. Сейчас боль была столь сильной, что он даже тихонько вскрикнул. Переждав немного, он, морщась, встал на ноги и направился в левый, ближний к двери угол, где на лавке стоял ковш с водой, а под лавкой — лохань. Наскоро ополоснул лицо студеной водой и сделал несколько шагов наискосок, по диагонали, по унылой своей клетушке. Сквозь крохотное слюдяное оконце проник первый луч рассветного солнца, и в его зыбком неверном свете Фидий вдруг совсем другими глазами увидел свои руки — белые, чистые, изнеженные, как у бездельника-эвпатрида. Давно уж, за эти долгие месяцы затворничества, зажили порезы, ссадины на пальцах, давно вымылась мраморная пыль, навсегда, казалось бы, въевшаяся в кожу. Фидий печально покачал головой: эти совсем непохожие на себя руки ему определенно не нравились. Это руки не скульптора и даже не привыкшего к праздному ничегонеделанью эвпатрида, это руки узника, обреченного на тоскливое бездействие.
Отворилась дверь, и тюремщик внес, поставил рядом с ковшом воды миску с вчерашней чечевичной похлебкой и ломоть черствой лепешки. Равнодушно сказал:
— Сегодня тебя навестит Перикл.
Никакого желания поесть Фидий не испытывал, и даже приятное известие, что сегодня он увидится со своим лучшим другом и покровителем, не прибавило ни аппетита, ни настроения. Ему хотелось из этой затхлой полутьмы на свет, на воздух, на белую скалу Кекропа,[96]где он столько лет работал как проклятый, мечтая явить не только Афинам, а и всему миру новое, доселе невиданное чудо. За что, в конечном счете, и очутился в этом каменном мешке. Политика в ее чистом виде интересовала его постольку поскольку. Он не был ни стратегом, ни оратором, ни судьей, он просто был сторонником Перикла. Если Фидий и влиял как-то на жизнь афинского демоса, то лишь как художник, чье мировоззрение никак не утаишь, ибо оно зримо, явственно проступает в фигурах богов и людей, которые мирно, именно — мирно сосуществуют на его фризах и фронтонах, украшающих Парфенон. Суд, приговаривая его к заточению, плясал под дудку аристократов, тех «немногих», кто подвел его под самую верную и беспроигрышную статью, обвинив в безбожии и святотатстве. На самом деле это мало бы кого взволновало, не будь он человеком из лагеря Олимпийца.
Фидий — не Анаксагор, который решительно отказывал богам в их жительстве на небе. Философ смел и напорист: какая там богиня Селена льет на землю призрачный лунный свет, когда на самом деле это лунное молоко не что иное, как отраженный свет солнца, который вполне можно уподобить тени, отбрасываемой стеной дома в знойный полдень. Анаксагор возвел в абсолют человеческий ум, полагая, что это самый лучший ключ, коим можно открыть ржавый замок невежества, оберегающий от людей многие земные и небесные тайны. Так это или не так, Фидий судить не берется, грубые материи — это не его стихия, пусть уж Анаксагор, прозванный эллинами «Умом», поясняет, что там из чего и как произошло, Фидия же заботит постижение законов гармонии и очень непростые взаимоотношения людей и богов. Небожители сокрыты от земных взоров снежной дымкой Олимпа, но они, как и люди, тоже телесны. Почти всех их скульптор знает в лицо, и фигуру каждого может высечь из камня с закрытыми глазами, будь то мощный торс Зевса-Вседержителя или пленительные линии Афродиты Пеннорожденной. Это не пустая похвальба, Фидий отвечает за свои слова головой, потому что боги являлись ему во сне и он их видел столь же отчетливо, как собеседника на агоре. И тогда он понял: страшит то, что пока никак не оформилось в воображении, что совершенно неясно, неизведанно, непознанно. А сонм олимпийцев представал перед художником так зримо, так осязаемо, что Фидию казалось: он почти вплотную приблизился к разгадке богов. Они — взрослые, родители, люди — младенцы, дети. И не надо бояться богов, как некоего пугала. Их нужно чтить и уважать, как послушные сыновья любят, боясь причинить лишние огорчения, своих отцов и матерей. Фидий нутром чувствовал, что его предназначение — бережно, благоговейно, насколько это ему удастся, спустить богов на землю, а людей, наоборот, хоть чуточку возвысить, приблизить к священному Олимпу. Он начал ваять богов по образу и подобию человека, зная, что такими, какими увидел их он, теперь увидят тысячи его сограждан, и не только. Боги мудры и милосердны, они постоянно среди нас, и уже одно их присутствие делает детей человеческих выше, благороднее, возвышеннее и справедливее. Да, он, Фидий, сын Хармида из Афин, первым из всех эллинов осмелился изобразить небожителей рядом с земными людьми, но, к сожалению, это понравилось не всем — некоторые ядовито поджимали губы при виде зофора,[97]где было представлено торжественное панафинейское шествие — среди свободных афинян находятся Гефест[98]и Афина,[99]столь милые сердцу простого ремесленного люда.