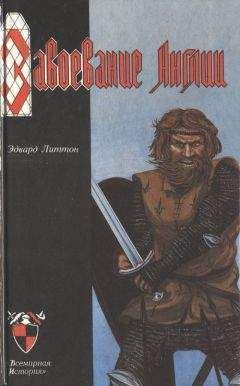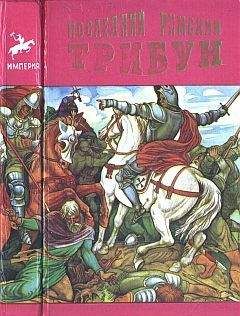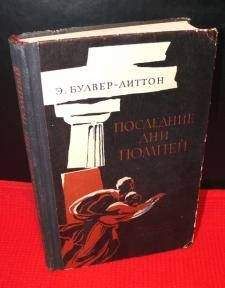Среди сеорлов, толпившихся в конце залы, послышался сдавленный, гневный ропот. Годвин поднял руку, требуя, чтобы его не прерывали, и продолжал:
— Совершив это злодейство, чужеземцы стали разъезжать по всем улицам с обнаженными мечами, резать всех, кто ни попадался им на дороге, и даже топтать детей копытами своих скакунов. Горожане тоже взялись за оружие… Благодарю Бога, давшего мне в соотечественники этих смелых граждан! Они дрались, как мы, англичане, всегда деремся, убили девятнадцать или двадцать человек наглых пришельцев и принудили остальных очистить город от своего присутствия. Граф Евстафий бежал. Он, как нам известно, человек умный и сообразительный; он не сходил с коня, не брал куска в рот, пока не остановился у ворот Глостера, где наш монарх производил в то время суд и расправу. Он пожаловался королю, который, выслушав одного лишь истца, очень разгневался за оскорбление, нанесенное его знаменитому гостю и родственнику, послал за мною, потому что Дувр находился в моем управлении, и повелел мне созвать военный суд и наказать по военным законам тех, кто дерзнул поднять оружие на иностранного графа… Обращаюсь к вам, мужественные графы, заседающие здесь, — к тебе, знаменитый Леофрик, и к тебе, благородный Сивард! На что, скажите, вам графства, если у вас не хватит силы или смелости охранять их права? Какой же образ действия предложил я? Вместо военного суда, который обрушил свой приговор на весь город, я посоветовал государю вызвать городского голову и старшин для объяснения их поступка. Король, потому ли, что я имел несчастье навлечь его гнев, или же по внушению чужеземцев, отверг этот образ действия, предписываемый законами Эдгара и Канута. А так как я не желал и, — объявляю в присутствии всех, — потому что я Годвин, сын Вольнота, не смел, если бы и желал, войти в вольный город Дувр в доспехах и на боевом коне, с палачом по правую руку, — эти пришельцы убедили короля призвать меня в качестве подсудимого в Витан, собранный в Глостере и наполненный чужеземцами… Не затем вызвали меня, чтобы — как я предполагал — совершить правосудие надо мной и моими дуврскими подчиненными, а для того, чтобы одобрить посягательства графа Булонского на льготы английского народа и предоставить ему право безнаказанно издеваться над англичанами! Я колебался; мне стали грозить изгнанием; я поднял меч на защиту себя и английских законов, поднял меч, чтобы не дать чужеземцам резать наших братьев у собственных их очагов и давить наших детей под копытами их лошадей. Король созвал свои войска. Благородные графы Леофрик и Сивард, не зная причин, заставивших меня прибегнуть к оружию, стали под знамя короля, как их обязывал долг к британскому базилевсу. Когда же они узнали сущность дела и увидели, что за меня поднялся весь народ, чтобы наказать заморских пришельцев, графы — Сивард и Леофрик — вызвались быть посредниками между мной и королем… Заключено было перемирие; я согласился представить все дело на решение Витана, который должен был собраться на этом же месте. Я распустил своих воинов; однако чужеземцы уговорили короля не только удержать свои полки, но даже посоветовали призвать к оружию ближние и дальние области и пригласить союзников из-за моря. Я явился в Лондон, чтобы предстать перед мирным Витаном, и что же я нашел — самое грозное ополчение, какое когда-либо собиралось в нашей стране! Вождями этого ополчения были норманнские рыцари. В таком ли собрании мог я ожидать правосудия? Несмотря на это, я соглашался явиться с сыновьями перед Витаном, если нам дадут охранные грамоты, в которых наши законы отказывают одним только грабителям. Два раза повторял я это предложение, и оба раза мне отказали… Таким образом я и мои сыновья были осуждены на изгнание. Мы покинули было отечество, но теперь возвратились.
— С оружием в руках! — злобно воскликнул Рольф, пасынок Евстафия Булонского, насилия которого были верно описаны Годвином.
— С оружием в руках! — повторил граф. — Да, мы подняли оружие на пришельцев, отравлявших слух нашего доброго короля… С оружием в руках, граф Рольф! При виде этого оружия бежали франки и чужеземцы — теперь же оно бесполезно. Мы среди своих соотечественников, и франк не стоит более между нами и кротким, миролюбивым сердцем нашего возлюбленного монарха… Сановники и рыцари, вожди этого Витана, величайшего из всех Витанов! Вам теперь надлежит решить; я ли со своими приверженцами или заморские пришельцы посеяли раздор в нашем отечестве? Заслужили ли мы изгнание? И, возвратясь назад, употребили ли мы во зло принадлежащую нам власть? Я готов принести очистительную клятву от всякого изменнического действия или помысла. Между равными мне королевскими танами находятся такие, кто может поручиться за меня и подтвердить представленные мною факты, если они еще не довольно ясны… Что же касается моих сыновей, в чем можно винить их, кроме того, что в жилах их течет моя кровь? А эту кровь я учил их проливать в защиту той возлюбленной страны, в которую они умоляют позволить им возвратиться.
Граф замолк и уступил место своим сыновьям; тем, что он так искусно удержался от того бурного красноречия, в котором его обвиняли, как в хитрой уловке, он произвел сильное впечатление на собрание, уже заранее готовое оправдать его.
Но когда вперед выступил старший сын Годвина, Свен, большая часть собрания как будто вздрогнула, и со всех сторон раздался ропот ненависти и презрения.
Молодой граф заметил это и сильно смутился. Дыхание замерло в его груди, он поднял руку, хотел заговорить… но слова застыли на устах, а глаза дико озирались кругом — не с гордостью правоты, а в мольбе преступной совести.
Альред Лондонский приподнялся со своего места и произнес дрожащим, но кротким и отчетливым голосом:
— Зачем выходит Свен, сын Годвина? Затем ли, чтобы доказать, что он не виновен в измене королю? Если так, то он сделал это напрасно, потому что если Витан и оправдает Годвина, то это оправдание распространяется на весь его дом. Но спрашиваю именем собрания: осмелится ли Свен сказать и подтвердить клятвой, что он не виновен в измене против Одина? Не повинен в святотатстве, которое губы мои страшатся произнести? Увы! Зачем выпал мне этот тяжкий жребий?.. Я любил тебя и люблю до сих пор твоих родственников. Но я — слуга закона и, следуя обязанностям своего сана, должен жертвовать всем остальным…
Альред на мгновение остановился, чтобы собраться с силами, и затем продолжал твердым голосом:
— Обвиняю тебя, Свена-изгнанника, в присутствии всего Витана, в том, что ты, движимый внушениями демона, похитил из храма богов и обольстил Альгиву, леоминстерскую жрицу!