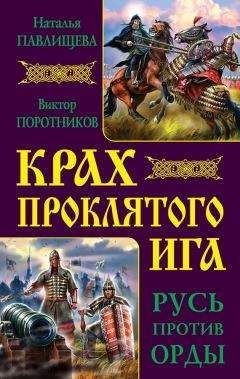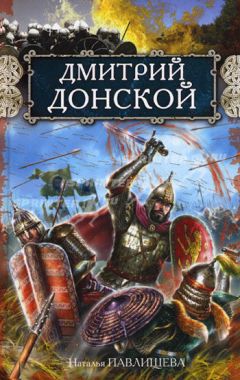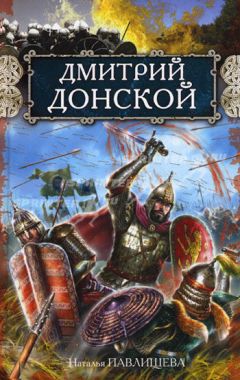Митрополит распечатал письмо сам и прочел тоже. При этом его лицо совершенно явно светлело, и довольная усмешка все больше раскрывала узкие старческие губы. Что-то получилось из очередной задумки Алексия.
Митрополит для порядка решил сначала попытаться увещевать непокорного, убедить подчиниться добром. Но князь Дмитрий принялся уговаривать своего наставника самому не ездить в Нижний Новгород, боясь, чтоб не повторилось киевское заточение. Алексий уговоров послушался, отправил к князю Борису двух умных людей, призывая в помощь еще и суздальского епископа. Но всем троим ничего не удалось, Борис Константинович остался глух ко всем увещеваниям. Москва начала готовить полки в помощь Дмитрию Суздальскому.
Но Алексий не сдался, он привлек еще одного святителя, своего друга отца Сергия, что был игуменом в маленьком монастыре на Радонеже, потом еще дальше ушел – на Киржач, тоже обитель ставить. Не все сразу поняли, к чему такое. Неужто митрополит надеется усовестить князя Бориса, если тот ни епископа, ни слова митрополичьего, ни брата не испугался, ни даже угрозы от Москвы?
Алексий в ответ качал головой:
– Отец Сергий справится и без войска, его слово сильнее мечей булатных.
В конце концов решили, что одно другому не помешает. Пусть себе Сергий Радонежский идет увещевать, а воеводы меж тем полки московские к Нижнему Новгороду подтянут. Авось сообща и одолеют Борисову дурь.
Митрополит Алексий вдруг решил вернуть в Троицкий монастырь Сергия, ушедшего подальше от мирской суеты далеко в Киржач, негоже такому человеку в берлоге сидеть. Конечно, вдали от дрязг мирских легче себя блюсти, но не время сейчас прятаться, слишком тяжело Руси, чтобы каждый лишь о себе думал.
Даже сам себе Алексий не сознавался, что отчасти завидует Сергию в этой его возможности вот так удалиться и отвечать только за себя, возможности отдаться духовным хлопотам, а не житейским. Зато отчетливо понимал другое – сам он так не смог бы. То есть смог бы, если б потребовалось, ведь даже темницу киевскую выдюжил, но не желал, он не представлял жизни без мирской московской круговерти, привык чувствовать себя ответственным за то, что в ней творится.
Пытался найти в себе и с удовольствием понимал, что нет в нем зависти к известности игумена, к его почитанию у самых разных людей. И чем брал Сергий? Жил так, словно только и старался скрыться от глаз людских, чтоб его не знали и не тревожили, а получалось наоборот. Он в глушь и даль – его зовут в Москву, он в монашеской схиме и босой, так что не сразу признаешь – а стоит где появиться, и любой под благословение подходит.
Какая такая сила была в этом человеке, что любое его слово запоминалось и из уст в уста передавалось, а любое, нет, не повеление, он не повелевал, а просто пожелание исполнялось скорее любых княжьих или ордынских приказов? Даже сам умудренный годами и тяжкими жизненными невзгодами, облеченный властью Алексий чувствовал себя рядом с Сергием учеником, только что под руку не подходил.
И вот этого игумена он теперь собирался сделать своим союзником в борьбе за становление Москвы над остальными княжествами. Насидевшись сначала в Царьграде, а потом в заточении в Киеве, Алексий хорошо осознал, что не может быть на Руси ни к кому не привязанным, что сделал свой выбор – Москва и только Москва, иначе погибнет Русь. Только Москва может удержать Русь, а значит, он будет помогать нынешнему молодому князю Димитрию и постарается привлечь на свою сторону отца Сергия.
Не раз уже засомневался, вправе ли вовлекать в мирскую суету Сергия, который так стремится от нее уйти, не раз молился, прося Господа помочь в выборе. Но стоило узнать о новой угрозе со стороны князя Бориса Константиновича, как все сомнения отпали разом. И к Сергию помчался гонец с просьбой (не повелением!) от митрополита спешно прибыть в Москву.
Алексий смотрел на высохшего от постов и молитв Сергия и снова сомневался в своем решении, настолько отрешенным казался взгляд игумена. Но стоило тому после взаимных приветствий начать рассказывать, что увидел по пути, как митрополит понял, что монах поможет. Его душа тоже болела за Русь, хотя и старался от всего отрешиться.
Беда на земле Русской, сколько лет уже беда!.. То ордынцы набегами грабят да в полон уводят, то мор волна за волной накатывает, то сушь великая, то князья меж собой земли не поделят. И за все мужик русский расплачивайся. Игумен говорил об обезлюдевших деревнях, что так и не смогли подняться после мора, о многих нищих на дорогах, о сиротах… И митрополит все больше понимал, что не удалось Сергию спрятаться в свою келью, закрыться от мира. Будет он предстоятелем пред Богом Руси святой, будет помогать исполнять Его волю на грешной земле, хочет того или нет.
Но разговор о Нижнем Новгороде и князьях Константиновичах все же начал не в первый день, сначала дал привыкнуть, оглядеться. Потом беседу повел о неустроении Троицкой обители, прося снова взять ее под себя.
Сергий, видно, ждал этого разговора, стал гнуть свое, мол, на Киржач ушел потому, что Радонежская обитель стала просто местом прибежища состоятельных более, чем местом, где душой смиряются. Не Богу служат, а своей тщете! Не о спасении души заботятся, а о бренном теле, в кое она до поры заключена. Перестала обитель быть тем, чем задумана.
Алексий послушал возражения, а потом спросил:
– Почему сие, как мыслишь?
– Устав монастырский менять надо! Чтоб не было у инока в обители своего, принесенного из мира, чтобы не гордился многими слугами да имениями, чтобы все одинаковы пред Богом без злата да богатства! Тогда и служба Господу будет, а не своей тщете!
Глаза митрополита чуть прищурились, понимал, что прав игумен, ведь в обитель все больше уходили не по зову душевному, а чтоб отделиться, и жизни своей почти не меняли, только стояли службы старательней да поклоны отбивали чаще. Какое уж тут иночество? Вдруг губы Алексия тронула усмешка:
– А ты измени устав, отец Сергий.
– Как? В Троице у каждого свое да кое у кого даже казна своя.
– Смени устав моей волей, а кому не по душе придется, тот в другую обитель уйдет. Останутся только те, кто согласен. Как жить-то мыслишь, если не будет богатых жертвователей?
Тот чуть нахмурился:
– Да пусть жертвуют, надо только, чтоб не шли в обитель ради того, чтобы в схиме богу душу отдать, негоже сие…
Долго еще обсуждали, как быть с Троицкой обителью. Согласился Сергий вернуться из Киржача и снова принять монастырь в Радонеже, но с условием, что все по-своему сделает. Так и получится, долго еще Троицкая обитель, которую зовут Троице-Сергиевой лаврой, отличалась строгостью своего устава. Было в ней все для монахов общее, трудились до седьмого пота, жили бедно и даже нище, но зато в чистоте душевной. Может, потому и народ сразу оценил силу духа у игумена Троицкой обители, признал за Сергием право быть духовным наставником целого народа?