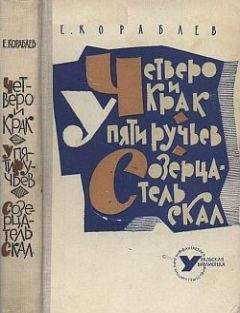В начале июня, когда Петру уже минуло шестнадцать, в Праге собрался представительный сословный сейм, предметом забот которого было раздобыть деньги для предстоящей войны с турком. Почти перед самым открытием сейма император занемог и поручил трем весьма высоким вельможам — главному гофмейстеру, главному канцлеру и главному бургграфу заменить его и при этом подробно осведомлять о ходе и результатах заседаний. Господа бросились на поиски хорошего стилиста, знатока латыни, кто мог бы справиться с этой, весьма деликатного свойства задачей, ибо император, утонченный гуманист, не терпел дурной латыни, а корявый слог мог повергнуть его как в глубины меланхолии, так и в необузданную ярость. Поднялась суматоха и паника, все, кто до сих пор хвастал своими несравненными, исключительными познаниями в латыни, попрятались в загородных поместьях или же слегли с приступом лихорадки, так что графу Гамбарини не стоило слишком больших усилий продвинуть на место письмоводителя и секретаря своего подопечного Петра; и Петр ринулся исполнять это ответственное задание с пылом, свойственным его возрасту, и исполнил его с успехом, соразмерным своему таланту; два часа спустя после вручения доклада в высочайшие руки при дворе уже всем стало известно, что император, читая Петрову запись, удовлетворенно кивал головой, издавая при этом свистящие звуки: «ц-ц-ц».
Право же, не всякому доводится заслужить похвальное «ц-ц-ц» государя императора, ну а кому это удалось, тот может себя поздравить: Петр так и поступил, с улыбкой выслушивая легенды о том, что, дескать, императору не терпится поглядеть на автора прекрасного проекта и он ждет не дождется своего выздоровления, чтобы пригласить Петра к себе и лично с ним познакомиться.
Встреча эта действительно имела место, но при обстоятельствах совершенно иных, чем Петр воображал, и столь ужасных, что тут, вне всякого сомнения, не обошлось без дьявольского участия.
Небольшая группка дворян, и Петр в их числе, однажды совершала прогулку по королевским садам, за люстхаузом, над Оленьим рвом, с любопытством наблюдая зубров и туров, населявших ров. О плечо Петра опиралась миленькая баронесса из В**, дама пикантная и на все согласная. Петр ухаживал за ней несмело, зато тем успешнее, поскольку ее, искушенную обольстительницу, привлекала его неопытность в делах флирта и любви; она открыто и бесстыдно проявляла свою благосклонность к Петру, прижимаясь к нему и подымая вверх свое улыбающееся личико, украшенное черной мушкой. И он, будучи выше ее на голову, склонял к ней свое пылающее лицо, убежденный, что любит, ибо ее расположение льстило его самоуверенности, а самоуверенность разжигала его мужественность, так что при виде обольстительной ложбинки за вырезом лифа баронессы, открытой его взору, его мужская сила прибывала бурно и неудержимо, чего баронесса не могла не заметить и отвечала Петру страстным воркованьем.
В центре группы царил некий рыцарь Тротцендорф, личность темного происхождения; никто не знал, за что и ввиду какого звания держат его при императорском дворе, однако, он дуэлянт, питух, забияка и игрок, с лицом, испещренным шрамами и опаленным у правого виска порохом от выстрела, который когда-то, в поры его бесшабашных распутств, прогремел вблизи его головы, тем не менее вел себя здесь по-хозяйски, рассказывая о скандале, будто бы разыгравшемся в Испании. Новый английский посланник, получив у Ее Величества аудиенцию, преподнес ей маленький прелестный подарок — пару шелковых чулок. С королевой шок, она чуть не в обмороке, а несчастного посланника быстренько, ходом-ходом, отсылают обратно домой, в родной Альбион.
Историйка понравилась, и только Петр не упустил случая задать свой излюбленный вопрос.
— Но почему? — проговорил он. — Что в этом плохого — подарить королеве шелковые чулки?
Рыцарь фон Тротцендорф поглядел на него с состраданием:
— Мне очень жаль, молодой человек, но ваши знания придворного этикета крайне ничтожны и требуют пополнения. Так что, будьте любезны, примите во внимание: королевам никак нельзя дарить чулки, поскольку у королев не бывает ног.
— У королев не бывает ног? — удивился Петр. — А как же королевы ходят, если не ногами?
Придворные замерли, ибо стычка молокососа, у которого едва начинают пробиваться усы, с искушенным roue[21] обещала стать интересной. Рыцарь фон Тротцендорф с улыбкой покрутил ус, преисполнившись сознанием превосходства над настырным малым, а также польщенный вниманием присутствующих дам и кавалеров, и ответил медленно и веско:
— Запомните, молодой человек, зарубите себе на носу: королевы «удаляются», «отправляются», наконец, «затворяются» в своих покоях, но королевы не ходят.
Рыцарь отвернулся от Петра, ибо считал, что своим ответом отбрил младенца, но Петр упорствовал как осел:
— Как же тогда они удаляются или отправляются куда-то, если не на ногах?
— Не знаю, — уже поскучнев, ответил фон Тротцендорф, — но ясно, что не на ногах, поскольку само понятие «королева» несовместимо с представлением о ногах и всем тем, что с ногами связано, ибо ноги — пусть дамы извинят меня — расположены у человека чрезвычайно неудачно. Королева стоит так высоко, что ей ноги не надобны. Сей формулы этикета при испанском дворе держались неукоснительно, и англичанин обязан был об этом знать. Установление касательно отсутствия у королевы ног — не только один из многочисленных общественных догматов, но и пробный камень крепости общественных устоев, и горе тому, кто отказывается принять этот догмат, ибо без веры в абсурдность люди не могли бы существовать, — вот и все, баста. — Тут рыцарь фон Тротцендорф добавил с усмешкой: — Я с удивлением отмечаю, что в конце концов эта дискуссия была не бесплодной, ибо навела меня на мысль вполне оригинальную.
— Это как посмотреть, — заметил Петр. — Не так уж она нова и оригинальна, поскольку каких-нибудь тринадцать сотен лет назад нечто подобное высказал известный апологет Тертуллиан, но только выразительнее, ярче и элегантнее. Что же касается королевских ног, то я все еще не получил удовлетворительного ответа. Вы признали, что королева стоит высоко. Но тогда на чем она стоит — высоко или низко, — если не на ногах?
Тут уж общество начало улыбаться и подхихикивать, а рыцарь фон Тротцендорф с гневом, — а это не способствует легкости беседы, — осознал, что симпатии дам и господ принадлежат не ему, а въедливому, назойливому втируше.
— Не лучше ли закрыть эту бесплодную дискуссию, я не подавал к ней повода, и до подобных разговоров дело бы не дошло, если бы молодой человек оказался менее невежествен, — предложил фон Тротцендорф.