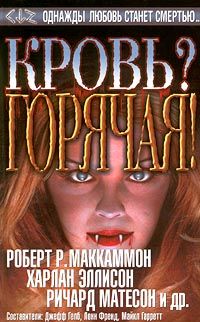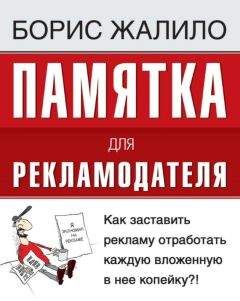— Нет, из Древнего Рима.
— Ты мне пули не отливай, художник… Из древнего Рима, — передразнил он Нелидова. — Из такого же древнего, как твоя клоунская шляпа, дружок.
— Не хотите — не берите, проходите…
— Я вот куда надо позвоню — там тебе и Рым и Крым покажут…
Рваное Ухо, которому с первого же запаха не понравился этот «колобок» (от толстяка несло салом с чесноком) угрожающе зарычал. Потенциальный клиент эскиза тут же скрылся за стеклянными дверями магазина. Бим заглянул в глаза хозяину: ну, как я его напугал, а?
Через минуту у этюда остановился еще один местный любитель живописи.
— Сколько хотите, молодой человек, за шедевр? — не отрывая глаз от обнаженной натуры, спросил пожилой человек в двубортном драповом пальто с вытертым бархатным воротником — ни дать, ни взять директор школы на пенсии. Старичок, как показалось, Нелидову, был немного «под шафе». По манере держаться и прямо смотреть в глаза, он чем-то напоминал Максиму его отца, старого школьного учителя, большого умницу и великого чудака. — Так сколько, не слышу…
Максим назвал цену.
— Даю половину, молодой человек, — ответил «бывший учитель», как окрестил его Максим. — Рекомендую соглашаться.
Бюджетник перешел на шепот:
— В провинциальном городишке, где инфляция съела не только материальные, но и духовные ценности, вам больше моего никто не даст. Впрочем, я очень плохо вижу, хотя в живописи лучше меня в этом городе не разбирается никто. Уж будьте уверены, молодой человек!
Максим промолчал.
Пенсионер с обликом дореформенного педагога достал из кармана круглые допотопные очки в металлической оправе, водрузил почти снайперскую оптику на нос.
— По манере чуть ли не Тициан… Итальянское Возрождение. Ну, прямо Венера Урбинская… Талантливое подражание. Но скорее — это французы. Стиль «ню», обнаженной натуры… — приговаривал городской сумасшедший, последний из могикан-ценителей. Он то надевал, то снимал свои очки-лупы. При этом его глаза сначала увеличивались в разы, напоминая блюдца сказочной собаки на сундуке, а потом превращались в смотровые щели хитровато-добродушного японца.
Нелидов с обидой сказал:
— Это не подделка. Это оригинал.
Несмотря на какую-то ироничность в словах покупателя, Максим с любопытством ждал продолжение торгов.
— Современные французские экспрессионисты? Угадал?
— Почти…
«Пусть изголяется в своих познаниях, лишь бы купил…» — подумал Нелидов.
— Кто? — старик с прищуром смотрел на этюд, прикрывая его рукавом от моросившего дождя. — Кто художник-то?
Максим в поисках ответа взглянул на вывеску, красовавшаяся на скромной будке сапожника «Ремонт обуви» и прочитал её вслух, ставя в перовом слове ударение на перовом слоге, а во втором — на гласной «И»:
— Ремонт Обуви…
Старичок зацокал языком:
— Не может быть!.. Это же, я знаю, Пикассо нашего времени. Восходящая звезда. Ай-яй-яй!.. Ремонт Обуви… — он повторил «иностранную» расстановку ударений. — Я бы, честное пионерское, дал бы больше, но нету…
— Я бы в другое время и в другом месте подарил бы этот шедевр, как истинному ценителю изобразительного искусства, но не могу… Обстоятельства.
— Берите, берите, — горячо запричитал «поношенный интеллигент», суя купюру в карман плаща Максима.
— Если бы не Старый Оскол, цены на билеты…
— О-о, эти цены!.. — театрально вскричал тронутый бедностью старик. — Они нас душат, эти цены… Но истинное искусство — бесценно! Эта картина, молодой человек, со временем займет уже предназначенное мной место в в еще, слава Богу, государственном Русском музее.
— Ну, вы, мягко говоря, это… загнули.
— Ничего я не загнул! — не зло оборвал художника чудак-покупатель. — Ни-че-го! А ежели и загнул гвоздь, то только для того, чтобы он крепче сидел на своем месте.
И тут же энергично протянул руку Максиму.
— Достоевский, Николай Николаевич…
Видя в глазах продавца «Ремонта Обуви» красноречивый немой вопрос пополам с испугом, привычной скороговоркой добавил:
— Не бойтесь. Я не сумасшедший. Просто однофамилец Федора Михайловича…
— «Преступление и наказание»?…
Старик, глядя на прохудившееся небо, стал ловко скатывать этюд в рулончик. Оставил только хвостик от полотна, погладил его негнущимися замерзшими пальцами и простодушно улыбнулся, приблизив свою увеличительную оптику к холсту.
— Преступление — его, а вот наказание — моё, молодой человек. За бесов расплачиваемся. Хотя Федор Михайлович предупреждал человечество… Так мы же сами с усами… Взяли этих бесов под мохнаты рученьки и сами же возвели на престол. Как те римские сенаторы, которые говорили о вашем Домициане: «Он сукин сын, конечно, но это наш сукин сын!».
Старик засмеялся, будто потрясли пластмассового Ваньку-встаньку и внутри старой игрушки что-то зазвенело и забулькало.
Максим с удивлением посмотрел на городского сумасшедшего.
Бим подхалимно подполз к старику на грязном животе и лизнул мокрый дедушкин ботинок.
— А вот собак и вообще тех, кто от вас зависит, нужно жалеть и хорошо кормить, — покачал головой старый интеллигент.
— Дайте срок — накормим…
Странный человек, чувствуя замешательство собеседника, спрятал очки в боковой карман старого пальто.
— А вы, молодой человек, думали, я клюнул на вашего «Ремонта Обуви»? — он смешливо скосил глаз на вывеску на сапожной мастерской. — Гениальная импровизация, молодой человек. Но, если хотите быть инкогнито, то зря внизу этюда подписали: «Весталка Валерия, за день до гибели Домициана. Х. Нелидов». У меня очки — плюс шесть с половиной. Цейсовский бинокль! Хотя талант и без бинокля разглядеть можно. Талант не бывает плоским. Он — выпуклый… Его, как шило, в мешке не утаишь.
Он продолжал веселиться:
— А «Х.Нелидов», то есть художник Нелидов, простите, вы, надеюсь?
— Художник Максим Нелидов, — сказал Максим, склонив голову, будто представлялся самому императору.
— Очень приятно. Очень, честное пионерское!..Я запомню ваше имя, — пообещал странный человек, пряча этюд Валерии под драповое пальто. — Мне, знаете ли, ужасно повезло, что я вас встретил, тут, на ступеньках «Европы», не в самое лучшее ваше время…
Максим хотел возразить и полез было в карман, чтобы вернуть деньги.
— Нет, нет, нет… И не дерзите старому человеку! Дал, что мог, от чистого сердца пенсионного пособия… на сохранение национального достояния.
— Ну, вы скажите…
Он снова достал очки, глаза его сделались на пол-лица — но грустные, а вовсе не смешные.