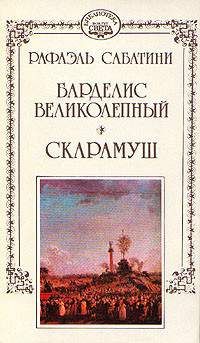Не успел я ответить ему, как дверь широко распахнулась и в комнату, в ночном колпаке и в наспех накинутом халате, выглядя настоящей мегерой в этом бесформенном deshabillenote 41, ворвалась виконтесса.
— Посмотри, — крикнула она своему мужу, ее резкий голос звенел от возмущения, — посмотри, к чему ты привел нас!
— Анна! Анна! — воскликнул он, подойдя к ней и пытаясь успокоить ее. — Успокойся, детка, будь мужественной.
Но она вырвалась из его объятий и металась по комнате, тощая и злая, как фурия.
— Успокойся? — презрительно повторила она. — Будь мужественной? — У нее вырвался короткий смешок — отчаянное, мрачное, насмешливое выражение гнева. — Неужели, помимо всего прочего, ты еще и наглец? И ты смеешь просить меня успокоиться, быть мужественной в такую минуту? Разве я не предупреждала тебя двенадцать месяцев назад? Ты не обращал внимания на мои слова, ты смеялся надо мной, а теперь, когда мои страхи оправдались, ты просишь меня успокоиться?
Снизу раздался скрип ворот. Виконт услышал его.
— Мадам, — сказал он, отбросив уговоры, и теперь его голос был полон достоинства, — солдат уже впустили в замок. Я прошу вас уйти. Наше положение не позволяет…
— А какое у нас положение? — резко оборвала она. — Мятежники, высланные, бездомные нищие — вот наше положение, благодаря тебе и твоему дурацкому участию в заговоре. Что станет с нами, глупец? Что станет с Роксаланой и со мной, когда они повесят тебя, а нас выселят из Лаведана? Боже правый, подходящее время для разговора о достоинстве! Разве я не просила тебя, malheureusnote 42, не вмешиваться в эти распри? Ты смеялся надо мной.
— Мадам, ваша память несправедлива ко мне, — ответил он подавленным голосом. — Я никогда в жизни не смеялся над вами.
— Ну ты недалеко от этого ушел. Разве ты не говорил мне, что я должна заниматься своими делами? Разве ты не говорил мне, что будешь идти своим путем? Ну вот ты и пришел, о Боже! Эти слуги короля заставят тебя пройти еще немного, — продолжала она с жестоким, отвратительным сарказмом. — Тебе придется дойти до эшафота в Тулузе. Это, ты скажешь, твое личное дело? Но разве ты обеспечил будущее своей жены и дочери? Выходит, я вышла за тебя замуж и родила тебе дочь только для того, чтобы мы с ней погибли от голода? Или же ты прикажешь наняться в прислуги или пойти в белошвейки?
Виконт со стоном упал на кровать и закрыл лицо руками.
— Господи, помоги мне! — воскликнул он со страданием в голосе. Это страдание было вызвано не страхом смерти; он страдал от бездушия этой женщины, которая в течение двадцати лет делила с ним кров и постель и которая в минуту несчастья предала его.
— Да, — издевалась она, — проси Бога о помощи, потому что от меня ты ее не дождешься.
Она ходила взад и вперед по комнате, как тигрица в клетке, ее лицо позеленело от злости.
Она больше не задавала ему вопросов; она больше не обращалась к нему; с ее тонких губ одно за другим срывались проклятия, и я содрогнулся от чудовищности ругательств, произносимых женскими устами. Наконец мы услышали тяжелые шаги по лестнице, и, движимый внезапным порывом, я вскричал:
— Мадам, пожалуйста, возьмите себя в руки!
Она повернулась ко мне, ее близко посаженные глаза полыхали от гнева.
— Sangdieu! По какому праву вы… — начала было она.
Но сейчас было не время для женской болтовни; не время для соблюдения этикета; не время для расшаркивания и учтивых улыбок. Я крепко схватил ее за руку и, наклонившись прямо к ее лицу, сказал:
— Folle!note 43
Готов поклясться — ни один мужчина не называл ее таким словом. Она задохнулась от удивления и гнева. Я понизил голос, чтобы меня не услышали приближающиеся солдаты.
— Вы хотите погубить и себя, и виконта? — тихо произнес я. Ее глаза задавали мне вопрос, и я ответил: — Откуда вы знаете, что солдаты пришли за вашим мужем? Вполне возможно, им нужен я — и только я. Скорее всего, они ничего не знают об отступничестве виконта. Вы что, своей тирадой и своими обвинениями хотите сообщить им об этом?
Она раскрыла рот от удивления. Об этом она не подумала.
— Прошу вас, мадам, отправляйтесь в свою комнату и возьмите себя в руки. Скорее всего у вас нет причин для беспокойства.
Она уставилась на меня в смятении и замешательстве, и, хотя она уже не успевала уйти, мое предупреждение прозвучало вовремя.
В этот момент дверь снова открылась, и на пороге возник молодой человек в латах и в шляпе с пером, в одной руке он держал обнаженную шпагу, а в другой — фонарь. За его спиной блестели клинки солдат.
— Который из вас господин Рене де Лесперон? — вежливо спросил он с сильным гасконским акцентом.
Я шагнул вперед.
— Меня называют этим именем, господин капитан, — сказал я.
Он посмотрел на меня с сожалением, как бы извиняясь, и сказал:
— Именем короля, господин де Лесперон, я прошу вас сдаться!
— Я ждал вас. Моя шпага там, сударь, — учтиво сказал я. — Если вы позволите мне одеться, я буду готов идти с вами через несколько минут.
Он поклонился, и сразу стало ясно, что он прибыл в Лаведан — как я и говорил виконтессе — только из-за меня.
— Я благодарен вам за вашу покорность, — сказал этот вежливый господин. Это был симпатичный паренек с голубыми глазами и улыбчивым ртом, которому даже его топорщившиеся усы не смогли придать суровое выражение. — Прежде чем вы начнете одеваться, сударь, я должен выполнить еще одну обязанность.
— Выполняйте свою обязанность, сударь, — ответил я. Он подал знак своим людям, и через минуту они уже рылись в моих вещах. В это время он повернулся к виконту и виконтессе и принес им свои извинения за то, что нарушил их сон, и за то, что грубо отобрал у них гостя. Он говорил, что наступили смутные времена. Он осыпал проклятиями обстоятельства, которые вынуждают его солдат выполнять неприятные обязанности судебного пристава, и надеялся, что мы все равно будем считать его честным дворянином, несмотря на его неприглядные действия.
Из карманов моей одежды они вытащили письма, адресованные Лесперону, которые этот несчастный передал мне перед смертью; среди них было письмо от самого герцога Орлеанского, одного этого письма было достаточно, чтобы повесить целый полк. Кроме того, они взяли письмо господина де Марсака, написанное два дня назад, и медальон с портретом мадемуазель де Марсак.
Они передали бумаги и медальон капитану. Он взял их с осуждением, почти с отвращением, которым были окрашены все его действия, связанные с моим арестом.
Именно из-за отвращения к этой своей работе он предложил мне ехать без конвоя, если я дам ему слово не пытаться бежать.