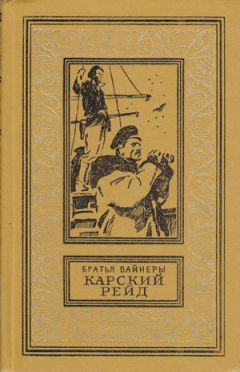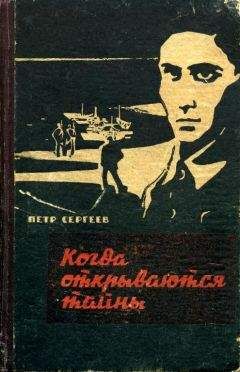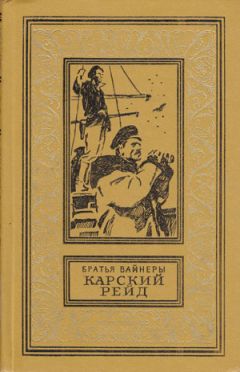— А уголь?
Шестаков рубанул рукой перед собою:
— Объясняю, внимание! Час назад я получил из Лондона телеграмму от народного комиссара Красина. Он сообщает, что советская торговая делегация ведет там переговоры о закупке парохода с углем. Да и мы тут вместе поскребем по сусекам. Ведь каждая горсть угля — это кусок хлеба, каждое ведро угля — спасенный от голодной смерти человек!..
По узким почерневшим доскам тротуара Чаплицкий и Берс, кутаясь в башлыки, прошли в столовую № 3 — бывшее процветающее питейное заведение братьев Муратовых.
Здесь и сейчас было полно людей, по виду — типичных обитателей портовых трущоб.
Толкотня, гам, теплая вонь.
Посетителей лениво обслуживал Федор Муратов, а старший брат Тихон царил за буфетной стойкой, разглядывая людей с безразличным отвращением.
Чаплицкий и Берс устроились в углу за свободным столиком, осмотрелись по сторонам.
Берс сказал с ухмылкой:
— Все, как в трактире Тестова.
— Или наоборот — как в ресторане «Стрельна», — поморщился Чаплицкий.
— Спросите у них, Петр Сигизмундович, пашотт с трюфелями, землянику, черный кофе. И сигару, — паясничал Берс. — Рюмку арманьяка, бокал шампанского, бенедиктин… Сил нет, как жрать хочется!
— Спрошу, — неожиданно покорно согласился Чаплицкий. К столу подошел Федор Муратов, равнодушно глядя поверх их голов, сообщил:
— Гуляш из тюленя, вареная треска, капустная солянка, щи. Все.
Чаплицкий сбросил башлык, негромко проворчал:
— Не больно ты меня балуешь, брат Федор! Вижу, что не загуляешь у тебя…
Федор всмотрелся в лицо Чаплицкого, узнал, тихо ахнул:
— Господи, никак Петр Сигизмундович? Вы же… вас же… Господи, радость-то какая!..
Чаплицкий открыто, сердечно улыбнулся:
— И у меня сегодня радость, Феденька. Иди скажи Тишке — пусть накроет нам в задней комнате чего бог послал.
Федор опрометью бросился к старшему брату. Берс воскликнул с нескрываемым восторгом:
— Чаплицкий, вы гений! Не знаю, как насчет трюфелей, но человеческой едой, похоже, нас накормят.
Чаплицкий похлопал его по плечу:
— Были здесь и трюфели когда-то… А что касается человеческой еды, то мы ее заслужили, геноссе Берс. Сегодня у нас праздник. Вы себе даже не представляете, до какой степени я гений… — Чаплицкий сделал самодовольную паузу и закончил: — Севрюков добрался до места, он уже в Лондоне!
— Что вы говорите, Чаплицкий!
— Да, да! Связь установлена. Вчера поздно вечером пришло сообщение от Миллера…
Берс подозрительно посмотрел на него:
— Интересно, но недостоверно. Вы — здесь, Севрюков — в Лондоне, а вчера у вас — сообщение?
— Ну и что?
— Это похоже на сочинения господина Жюля Верна.
Чаплицкий засмеялся:
— Вы мне не верите?
— Я-то вам верю, — пожал плечами Берс. — Но вы, судя по вашему рассказу, совсем не доверяете мне!
Чаплицкий закурил, выпустил в потолок клуб дыма:
— Берс, не говорите красиво. Вы мне верите, и я вам доверяю. Но не хочу обременять вашу память лишними сведениями. Если вам случится попасть в подвалы Чека, сами же будете меня благодарить.
— За что? — удивился Берс.
— За то, что вам вспомнить нечего…
К их столу подошел оборванный опухший человек в драных офицерских сапогах, долго недоверчиво всматривался в Чаплицкого и, наконец, бросился к нему:
— Петр Сигизмундович, голубчик! Дайте обнять вас, господин каперанг!
— Тсс-ть! — оборвал его Чаплицкий, резко толкнул его в живот, и тот плавно плюхнулся на стул.
Чаплицкий наклонился к нему и сказал сквозь зубы:
— Еще раз на людях обнимешь — застрелю! Дурак! Твое счастье, что я тебя уже давно высмотрел, Колыванов.
— Слушаюсь! — подавленно прошептал Колыванов.
А Чаплицкий кивнул на него ротмистру:
— Полюбуйтесь, Берс, на нашу гвардию: поручик Семеновского полка Алексей Дмитриевич Колыванов. — И, повернувшись к офицеру, гневно бросил: — В каком вы виде?!
— А что делать? Как жить? — Из глаз Колыванова по опухшему лицу потекли пьяные бессильные слезы. — Документов нет, денег нет, в комендатуру идти боюсь — в расход могут пустить. От голода памороки случаются…
Он высморкался в грязную серую тряпицу, стыдливо упрятал ее в карман, сказал обреченно:
— Каждый день в облаву попасть рискуешь… Разве что самогоночки стакан засосешь — на душе отпускает…
Чаплицкий сказал строго:
— Стыдитесь Колыванов, вы же офицер! Разве можно так опускаться?
Колыванов резко отшатнулся от него. Потом снова наклонился к Чаплицкому и сиплым шепотом проговорил:
— Да вы зря, Петр Сигизмундович, голубчик… Зря срамите вы меня… у вас ведь одно передо мною преимущество — совесть у вас молчит…
Зло прищурился Чаплицкий:
— А ваша совесть бьет в набат… пустых бутылок?
Колыванов медленно покачал головой:
— Моя совесть, как крыса, в груди ворошится… Все сердце выела. Только она… да страх остались, да срам горький за все, что мы тут наворотили…
— Что ж мы такого наворотили? — неприязненно пробормотал Чаплицкий.
А Колыванов вдруг пьяно выкрикнул:
— Родину-мамку мы снасильничали, вот что…
— Прекратите истерику, ну! — прошипел Чаплицкий. — Баба несчастная.
Колыванов замолчал, опустил голову.
К столу подошел Федор Муратов, наклонился к Чаплицкому:
— Петр Сигизмундович, извольте пожаловать в кабинет, ждет вас брат Тиша.
Чаплицкий добро засмеялся, хлопнул по плечу Колыванова:
— Не тужите, поручик, все еще будет в порядке. Сейчас вас накормят, дадут выпить, отогрейтесь, а потом вместе пойдем отсюда… — Он встал, велел Муратову: — Федечка, приласкай моего друга…
Когда отошли на несколько шагов, Чаплицкий быстро шепнул трактирщику:
— Какой-нибудь варнак у вас найдется?
Муратов склонил голову:
— Завсегда под рукой, Петр Сигизмундович.
— Тогда, Федя, с этим… «другом» моим… Закончи. Совсем… Понял?
— Понял!
Они вошли в заднюю комнату трактира — «кабинет», — где их встретил с распростертыми объятиями Тихон Муратов.
— Дорогим гостям честь и место!
Чаплицкий, обнимая хозяина, сказал Берсу:
— Знакомьтесь, ротмистр. Это мой друг, советчик и верный помощник Тихон Савельевич Муратов. — И обернулся к Тихону: — Что, Тиша, плохо живем?
— Хуже некуда, Петр Сигизмундович. Голодуют людишки шибко, до края дошли.
Чаплицкий бросил насмешливо:
— А тебе их, Тиша, жалко?
Муратов с жаром возразил:
— Не-е! Чего их жалеть! Это им только помстилось, будто все — всем стадом, значит, — могут сладко есть да пить. Не было так никогда и не будет. Звереют они, однако. Боюсь, конец нам всем, ежли избавление не придет.