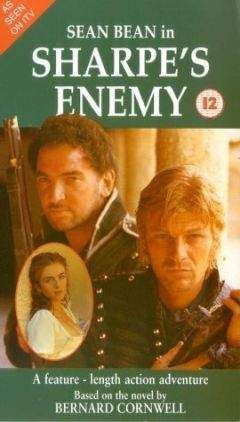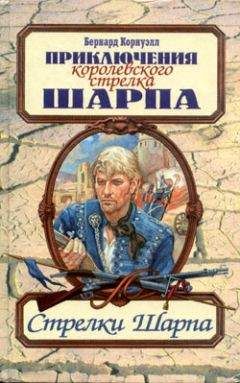– Мы расплетали старые корабельные канаты. Двадцать сантиметров толщиной, жёсткие, как подмётка, и если тебе было больше шести, ты должен был в день расплести двухметровый кусок. Паклю продавали обивщикам и конопатчикам. Но хуже всего – это была Костяная комната.
– Это ещё что?
– Костяная комната. Там перемалывали в порошок высушенные кости. Из порошка делалась паста. Половина того, что вы покупаете как слоновую кость, на самом деле – эта чёртова паста. Мы любили Рождество. Не надо работать.
– Вы не праздновали?
Мысленно Шарп унёсся в детство. Всё, что связано с приютом, он постарался после побега оттуда забыть покрепче. Иногда прошлое неожиданно всплывало в памяти (именно этому обстоятельству Харпер был обязан своей осведомлённостью), но нарочно вспоминалось с трудом, словно это происходило с каким-то другим, чужим и неудачливым мальчишкой.
– Почему же, праздновали. Утром – церковная служба. Бесконечная нудная проповедь, весь смысл которой сводился к одному – как нам, неблагодарным сосункам, хорошо живётся. Потом – кормёжка. Рубец.
– И сливовый пудинг, сэр. Вы говорили, как-то раз перепал сливовый пудинг. – напомнил Харпер, заряжая один за другим стволы своего чудовищного оружия.
– Да, было. Богатенькие мамашки привели отпрысков поглазеть на бедных сироток. Единственный день в году, когда приют отапливался, а то, не дай Бог! – знатные детки подхватят насморк.
Шарп поднял палаш и проверил заточку:
– Много воды утекло с тех пор, капитан, ой, много…
– Вы возвращались туда когда-нибудь?
Шарп сел:
– Нет. Хотя желание порой возникало. Вернуться в офицерской форме, с саблей на поясе…
Он помолчал.
– А, ерунда! Там, наверно, всё изменилось. Наши мучители загнулись от старости. Сиротки спят в уютных кроватках и питаются три раза в день.
Шарп встал и вложил клинок в ножны.
Фредериксон покачал головой:
– Сомневаюсь, сэр. Сомневаюсь.
Шарп пожал плечами:
– Неважно, капитан. Дети – пронырливые зверёныши. Заставьте их выживать, и они справятся.
Он круто развернулся и пошёл прочь от ирландца с Фредериксоном. Шарп намеренно закончил разговор грубостью. Болтовня о беспросветных годах детства навела на думы о дочери. Может ли дитя её возраста радоваться Рождеству? Он не знал. Шарп вспоминал её маленькую мордашку, тёмные волосики, так похожие на его, и спрашивал себя: какая жизнь её ждёт? Жизнь без отца в горниле войны… Нет, поклялся Шарп, пока в его жилах течёт хоть капля крови, Антония не останется одна.
Перебрасываясь немудрёными шутками со стрелками, Шарп угадывал их страх, затаённый, подавленный. Отдав приказ сержантам раздать бренди, он был тронут, когда солдаты и ему предложили глоточек. Последними он проведал парней из ударной группы, точивших и без того острые штыки. Пятнадцать человек. Восьмеро из них были немцами, достаточно сносно изъяснявшихся по-английски, чтобы не путаться в командах. Со свойственной их нации дисциплинированностью при виде майора они вскочили, но Шарп жестом усадил их обратно:
– Не замёрзли?
– Нормально, сэр.
Только один из солдат, жилистый и флегматичный, никак не отреагировал на появление офицера, целиком поглощённый доводкой штыка на куске промасленной кожи. Поднеся лезвие к глазам, он довольно прижмурился, аккуратно сложил кожу и спрятал в сумку. Видя интерес Шарпа, стрелок без слов протянул ему штык. Майор тронул пальцем кромку. Боже! Как бритва!
– Что за волшебство позволяет добиться такой заточки?
– Труд и терпение, сэр. Ежедневный труд.
Стрелок принял штык обратно и бережно опустил его в ножны.
Его товарищ ухмыльнулся Шарпу:
– Тейлор каждый год получает новый штык, сэр. Старый стачивает. Вы его винтовку не видели?
Тейлор, похоже, привыкший к беззлобным подтруниваниям сослуживцев, так же молча передал офицеру винтовку.
В неё было вложено не меньше труда, чем в штык. Деревянные части прямо светились от регулярной полировки. Защитная скоба была подогнута, оставляя позади спускового крючка узкую щель. На прикладе, там, где его касается щека стрелка во время выстрела, красовалась самодельная кожаная накладка. Шарп оттянул курок, проверив, не заряжено ли оружие. Курок шёл назад мягко и ринулся вперёд, стоило Шарпу лишь притронуться к спуску. Жилистый одобрительно кивнул:
– Я его чуток усовершенствовал, сэр.
Шарп вернул ему винтовку. Выговором Тейлор напомнил ему майора Лероя из Южно-Эссекского.
– Вы – американец, Тейлор?
– Да, сэр.
– Лоялист? (Лоялисты – сторонники Англии во время мятежа 1775-1783 гг, в результате которого появились на свет США. Прим. пер.)
– Нет, сэр. Беглец. – словоохотливостью Тейлор не отличался.
– Беглец? Откуда?
– С торгового судна, сэр. Во время стоянки в Лиссабоне.
– Грохнул капитана, сэр! – восхищённо сообщил Шарпу другой стрелок.
Майор взглянул на Тейлора. Тот неопределённо поднял брови, как бы говоря: что было, то было.
– Где вы жили в Америке, Тейлор?
С ответом американец не спешил:
– Теннеси, сэр.
– Никогда не слышал. Мы воюем с Соединёнными Штатами, вас это не смущает?
– Нет, сэр. – из интонации американца следовало, что конфликт между его родиной и Англией – их личное дело, к Тейлору никакого отношения не имеющее, – Болтают, будто у вас в роте, сэр, есть парень, считающий, что умеет метко стрелять?
Речь, вероятно, шла о Дэниеле Хэгмене, лучшем стрелке Южно-Эссекского.
– Есть такой.
– Передайте ему, сэр, что Томас Тейлор попадает в цель с двухсот шагов.
– Хэгмен тоже.
Впервые невозмутимое лицо американца оживилось:
– С двухсот шагов, сэр, я залеплю ему пулю в любой из глаз, на выбор!
Ни тени сомнения в собственном мастерстве, и это пришлось по душе Шарпу. Подчинённый вроде Тейлора – не подарок для командира, но таковы были все стрелки: специалисты, гордые до заносчивости, элита. В отличие от армейских подразделений, где во главу угла ставилось слепое послушание, в стрелковых полках всё строилось на доверии и взаимопонимании между офицером и его солдатами.
В стрелках Шарп не сомневался. Тревожило его другое: мало того, что он понятия не имел, сколько людей Потофе охраняет монастырь, ещё и надежда на их пьянство слабела по мере приближения назначенного часа.
Вечер Сочельника. Тучи тяжёлой плотной шторой отгородили землю от небес. На родине в церквях пели гимны: «…Вышний Престол, куда ангелов сонм наши возносит мольбы…» Текст Шарп помнил ещё с приютских времён. «Грешным прощение дарит Господь, дарит земле благодать…» Не сегодня. Нынешней ночью не будет грешным прощения, лишь сабли, пули и смерть. И благодати не будет сегодня места у Врат Господа. Будет кровь, боль и злоба. Волна ожесточения захлестнула Шарпа. Ради несчастной клеймёной беглянки, молил он, ради жён Дюбретона и Фартингдейла, ради всех жён, матерей, дочерей, томящихся там, в монастыре, пусть скорее придёт ночь, ночь возмездия, а не прощения.