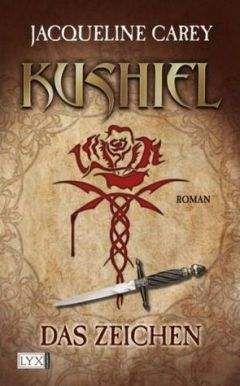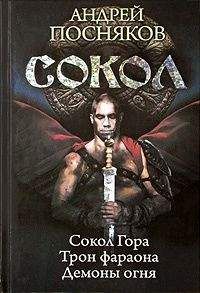Из дверей выбежала старая кормилица. Одной рукой она придерживала накинутую на плечи шубейку, другой поправляла съехавший на сторону платок на седой голове. Семеня слабыми ногами, она опустилась на колени и стала причитать:
– Зачем долго не приезжал? Зачем в Орде гулял, женушку-лапушку свою позабыл?
Гаврила Олексич наклонился, нежно поцеловал старушку в голову, сильными руками поднял ее и сказал тихо:
– Да говори толком всю правду, что случилось с моей боярыней?
Кормилица, всхлипывая и вытирая широким рукавом глаза, принялась рассказывать:
– Она много плакала и мне так говорила: «Узнала я, что мой хозяин в Орде себе другую жену завел, меня, бедную, позабыл. Жить больше не хочу. Руки бы на себя наложила, да боюсь гнева Божьего…» И два дня назад обняла она меня крепко, так горячо, будто прощалась, просила детей беречь и к вечеру на коне уехала из дому, никому ничего не сказав.
Пока старушка объясняла, на крыльце уже собрались другие нянюшки и служанки, прибежали и дети его: мальчик и девочка. Все говорили, перебивая друг друга, некоторые утирали слезы. Гаврила Олексич, схватив на руки обоих детей, закричал:
– Эй, хватит! Довольно охать и кудахтать! Я знаю, куда уехала боярыня. Завтра я ее домой привезу на тройке с бубенцами. А сейчас ступайте обратно в хоромы. Принимайте гостей долгожданных. Накормите моих дружинников.
Все бросились в дом. А перед Гаврилой Олексичем остановилась высокая и дородная главная домовница Фекла Никаноровна и, удерживая его за рукав, вкрадчиво сказала:
– Я тебе открою, свет наш ненаглядный, где ты найдешь свою боярыню. Я уже все разведала. Она побывала у бабок вещих, и те наговорили ей бог весть чего. Вот и уехала она в женский скит. Постриг хочет принять, монахиней сделаться. Молодая женская кровь играет, – чего с досады не придумаешь!.. Постриг! Шуточное ли дело! Вот какой узел скрутился! А ты его сумей распутать…
В день приезда Гаврила Олексич вел себя необычно, дружинники косились на него, но спрашивать не решались.
– Затуманился наш сокол!.. Вестимо дело: сколько дён ехал, подарков сколько на вьючных конях вез, а лапушка дома его и не встретила.
– Сидит теперь туча тучей за столом и прямо из ендовы романею пьет.
– Куда же боярыня уехала?
– Да не уехала, говорят тебе… Сбежала.
– Ой ли! Может, ее какой лихой молодец чернобровый силой увез?
– Тише ты! Не смей такого слова молвить!
– Не я говорю. От боярских поварих слышал.
– Поварихи же мне иное сказывали: в скит боярыня на богомолье уехала, а домовница обмолвилась, будто решила она постриг принять. Надоело без сроку Гаврилу Олексича ждать, а он, говорят, в Орде завел себе другую жену, татарку. Вот боярыня и затужила. Кровь-то у нее молодая, горячая, кипит, – вестимо, дурман-то в голову и кинется.
– Верно! А может, ее опоили. У боярина недругов немало.
– Зачем! Это она от обиды. Такую умницу-красавицу, как наша боярыня, и вдруг на басурманку сменить.
– А где же она, басурманка-то? Может, ее и не было?
– Нет, была! Пленные сами видели. Вот они и обмолвились…
– Все же сам подумай: постриг! Шуточное ли дело, ведь опосля оттуда возврата нет…
Все разговоры, однако, сразу оборвались, когда забегали слуги и стали сзывать некоторых близких дружинников в гридницу на беседу к боярину.
Не всех удалось собрать: одни ушли по своим дворам, других не могли добудиться, – спали крепким сном после тяжелой дороги.
Оправляя кафтаны, приглаживая длинные кудри, туже затягивая пояса, дружинники поднимались по скрипевшим ступеням в знакомую издавна гридницу. Все, казалось, на месте, как раньше бывало: и большие образа в углу в серебряных ризах, и скамьи, крытые червленым аксамитом. Так же сквозь обледенелые слюдяные оконца пробивались солнечные лучи и веселыми пятнами играли на широкой скатерти, расшитой мудреным узором.
Еще утром, повидав всех домашних, Гаврила Олексич собрался пойти к Александру Ярославичу, чтобы подробно рассказать ему о своей поездке к Батыю, но узнал, что князь на охоте и вернется в Новгород только дня через два. Значит, тем временем можно было заняться своими делами и отдохнуть.
Сейчас, без кафтана, в расстегнутой рубашке, с голой грудью, на которой виднелась серебряная цепочка с иконкой и ладанкой, он сидел, откинувшись назад, в красном углу, широко расставив на медвежьей шкуре длинные босые ноги. Татарские пестрые сафьяновые сапоги небрежно валялись под скамьей.
Он тяжело дышал и обводил угрюмым взглядом входивших, которые ему низко кланялись и становились кучкой близ двери. Возле Гаврилы Олексича, на краю стола, красовалась большая деревянная ендова и чеканной работы ковшик.
– Здравствуй на многие лета, Гаврила Олексич, – сказал старший из дружинников, высокий и степенный, поглаживая густую рыжеватую бороду и пытливо всматриваясь в побледневшее, но по-прежнему красивое лицо Гаврилы, то и дело облизывавшего сухие, воспаленные губы.
– Здравствуйте, ребятушки! – воскликнул тот, будто очнувшись от забытья. – Садитесь поближе. Сейчас потолкуем. Эй, челядь! Подайте новый жбан с медом и чаши, да не малые, а побольше.
Слуги забегали, доставая с деревянных резных полок, тянувшихся вдоль стен, серебряные кубки и узорчатые заморские чаши.
Олексич подождал, пока слуга, стоя на коленях, обернул ему ноги цветными онучами, и сам натянул сапоги. Он встал, слегка покачиваясь, пока другой слуга помог ему надеть кафтан и опоясаться серебряным поясом. Поведя плечами, он провел рукой по волосам и сел в старое резное кресло. Держался он прямо, глядел зорко, и только воспаленные, покрасневшие глаза говорили о долгих часах раздумья, проведенных в одиночестве возле жбана с заморской романеей.
– А где Кузьма Шорох? Эй, Кузя! – крикнул Гаврила Олексич так громко, что, казалось, на дворе его услышали.
– Здесь я, здесь, – ответил весело Кузьма, входя в двери и застегивая кафтан. – Едва меня отлили ледяной водой. Теперь я в полной справе. – Он улыбнулся задорно, низко поклонился и скромно уселся на скамье возле двери, всматриваясь в боярина, стараясь разгадать, что он надумал.
Тот выждал, пока слуги не расставили посуду и не налили в кубки и чаши темного меду или заморского густого вина.
– Ну, живо поворачивайтесь и уходите отсюда, – сказал он челядинцам. – Да прикройте двери. А здесь, кто помоложе, пусть подливает ковшиком из жбана.
Все взяли в руки чаши и кубки и ждали.
– Я вас призвал к себе, други, – сказал Олексич и замолчал, прикрывая глаза большой крепкой ладонью.
– Верно, немец опять зашевелился? – осторожно прервал воцарившуюся тишину старший дружинник.

![Аллэин Флаер - Веревки и цепи. Часть первая - Веревки. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)