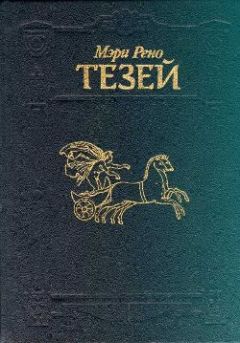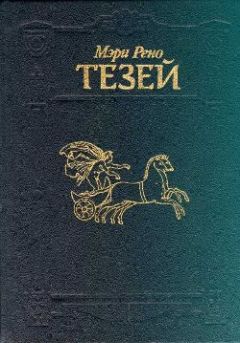— Конечно, есть, — говорит. — Сними с меня ожерелье; в волосах запуталось.
Я сперва не пошевелился, только глянул на нее.
— Ну, подумай, — говорит, — зачем царю превращаться в писаря и тратить время на противных уродливых стариков? — Уронила на пол пояс и юбку, подошла вплотную… — Погляди, вот здесь тянет. Мне больно! — Больше мы в ту ночь не разговаривали.
Но тут же вскоре я узнал, что она принимала посольство с Родоса и даже не сказала мне. Случайно узнал: услышал на нижней террасе разговор слуг. Они — знали! Я был ошеломлен. Я с места двинуться не мог!.. «За кого она меня принимает? — думаю. — Если у ее лисоглазого братца борода гуще, так она считает, что мне нянька нужна? Громы Зевса! Ведь я убил ее мужа!..» От злости в глазах потемнело.
Очнулся я от голосов вокруг. Мои Товарищи, как всегда, были там со мной; я еще едва отличал их друг от друга в то время.
— Что случилось, Керкион? Тебя что-нибудь тревожит? Ты выглядишь больным…
— Нет, он выглядит сердитым.
— Керкион, я могу чем-нибудь помочь?
— Ничего, — говорю, — мелочь! — Не мог же я им сказать, что она меня за человека не считает. Но когда в тот вечер все ее женщины разошлись, я спросил ее, что все это значит.
Она изумилась. Она на самом деле, действительно не понимала, чем я рассержен. Сказала, что ни в чем не нарушила обычаев, и это была правда, я знал… А что до того, как она ко мне относится… Она распустила волосы, улыбнулась мне из-под них…
На другое утро заря была золотисто-зеленой. У меня на груди лежала груда рыжих волос, щекотала кожу… Я поднял их, соскользнул с постели и подошел к окну. Через мерцающее море плыли в золотистом тумане холмы Аттики; казалось, их можно достать стрелой из лука. Я думал об обычаях землепоклонников — как все это странно, как трудно эллину их понять… Вот она выбрала меня, заставила драться, сделала царем… Но ни она, ни кто другой не спросили, согласен ли я с моей мойрой.
Проснулась и запела белая птица… С постели раздался ее голос — совсем не сонный.
— Ты думаешь? О чем ты думаешь?
Я знал, какой ответ ей понравится больше всего. Из всех ее мужей я был первым эллином.
Но с этого дня я словно очнулся от сна. Много времени в Элевсине я провел праздно: спал, танцевал или боролся с молодыми парнями, играл на лире, смотрел на море… Теперь я начал искать себе работу. Ничего не делать — не в моей это натуре.
Под рукой у меня были мои Товарищи. Если начнется война — пусть Ксантий ведет остальных, но должен же я командовать хотя бы своей гвардией. Пора было уделить им внимание.
Эти ребята не отходили от меня, — я уже говорил, — разве что в постели с царицей я обходился без них. Они все были из хороших семей, хорошо воспитаны, привлекательны, — без того они не попали бы туда, куда попали, — но этим и исчерпывались их достоинства. Чтобы попасть в ту гвардию, не надо было совершать подвигов, и я не нуждался в их защите. Ведь в Элевсине не было более ужасного преступления, чем убить царя не вовремя, и наказание было ужасно: после чудовищных пыток убийцу хоронили заживо, чтобы отдать его во власть Дочерям Ночи. Это случилось лишь однажды, очень давно, и то по нечаянности… Так что Товарищи были не охраной, а украшением царя; народу это нравилось.
Все они были более или менее греки — признак аристократизма в тех краях… Когда я начал с ними беседовать, то изумился, насколько они были тщеславны и завистливы. Каждый реагировал на малейший недостаток внимания, словно кошка на воду; все старались друг друга подсидеть… Ко мне они относились с живым интересом. Во-первых, потому что я был эллин, а во-вторых — как я узнал вскоре — про меня было какое-то предсказание, которое держали от народа в тайне. Я вспомнил смех прежнего царя, но это никому ничего не подсказало.
Судя по тому, что они умели, — до сих пор они только баловались в военные игры. Но трусами они не были; так что, наверно, виноваты были прежние цари: ни один из них не заглядывал дальше конца своего срока. Ну со мной другое дело — я всегда во всё вмешиваюсь, где бы я ни был…
Занятия на дворцовом плацу скоро всем надоели, потому я повел своих людей в горы. Сначала им не хотелось. Элевсинцы выросли на равнине и презирали горы: мол, нищая бесплодная земля, годная лишь волкам да бандитам… Я спросил, что они будут делать, когда грабители придут за их скотом, если не знают собственных границ. Они сказали — верно, мегарцы часто угоняют стада, чтобы восполнить потери от Истмийских бандитов по другую сторону их страны… «Ну что ж, — говорю, — на это лишь один ответ. Они должны нас бояться больше, чем тех бандитов». Так я затащил их на скалы. Мы добыли оленя в тот день и жарили нашу добычу возле горного ручья — понравилось. Но на обратном пути один из них вдруг подошел:
— Не говори никому, Керкион, а то в другой раз наверняка не пустят.
Я поднял брови:
— Ого! Кто это меня не пустит?
Они чего-то зашептались… Слышу, кто-то доказывает:
— …чего ты хочешь, дурак, ведь он же эллин!
Потом один сказал, очень учтиво:
— Видишь ли, Керкион, это очень большая беда, если царь умирает не вовремя.
Что верно, то верно. У минойцев есть песня про то, как в давние времена один молодой царь не послушался запрета царицы и пошел на охоту и его убил кабан. Говорят, анемоны окрашены его кровью. В тот год не уродились маслины, и никто никогда не слышал, чем это кончилось.
Тем не менее, на другой день мы снова были в горах, и на третий — тоже… Элевсин лежит между двумя эллинскими царствами; когда юноши уставали от тяжелой власти своих матерей, им было достаточно взглянуть искоса в любую сторону, чтобы увидеть страну мужчин. Так что они ходили в горы, и помалкивали об этом, и были очень довольны собой. Я не мог приносить во дворец свои охотничьи трофеи, потому раздавал их в качестве призов. Очень осторожно приходилось это делать, чтобы тщеславная братия не перессорилась из-за них. Время шло, мы привыкали друг к другу, взаимно учились говорить… И незаметно выработали свой собственный язык — греческо-минойскую смесь с целой кучей только наших шуток и словечек. Никто другой его не понимал.
Однажды — мы брали очень трудный подъем — я вдруг услышал, как они перекликаются:
— Мы потеряли Малыша!
— Где Малыш? Ты его не видел?
Я выбрался на видное место, и кто-то сказал:
— А! Вот он!
Я со многим смирился в Элевсине, но глотать оскорбления — слуга покорный. Я напомнил себе, что прошел за девятнадцатилетнего, а самому старшему из них двадцать один… И шагнул вперед:
— Следующего, кто назовет меня Малышом, я убью!
Они стояли разинув рты.
— Ну! — говорю. — Мы здесь на границе. Любой, кто убьет меня, может бежать. Или можете скинуть мой труп со скалы и сказать, что я упал. Я за юбки Богини прятаться не намерен, но сам за себя постою… Кто тут считает меня Малышом? Выходи и скажи это мне!