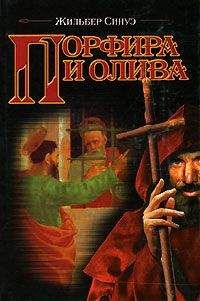— Не угодно ли тебе повторить, что ты сейчас сказал? Аполлоний — христианин?
— Несомненно. Это ни для кого не секрет. Я...
Не беря на себя труда дослушать до конца, Сервилий утер щеки полой халата и высокомерно бросил Алкону:
— Мой бедный друг, ты положительно слишком неуклюж, чтобы я и далее мог доверять тебе свое лицо.
Хохот возобновился с удвоенной силой, между тем как злополучный брадобрей аж зубами заскрипел от гнева.
— Утешься, — невозмутимо добавил Сервилий. — Я тебя так не покину. Завтра я стану настолько богатым, что смогу нанять тебя вместе с твоими помощниками, чтобы брить бороды моим вольноотпущенникам. Тогда сможешь развернуться в свое удовольствие.
Манера префекта преторских когорт вершить правосудие во все времена пользовалась дурной репутацией. Он никогда не занимался ничем, кроме уголовных процессов, в основном дел об оскорблении величества. Процедура велась секретно, смертные приговоры были слишком многочисленны, чтобы можно было верить в честность судей. Этого рода процессы устраивались в казармах преторианской гвардии.
Арестованные, нередко знаменитости, содержались там под надежной охраной в ожидании суда. Общаться между собой им разрешали не часто, зато в случаях, когда запрет не действовал, подобное послабление считалось весьма добрым знаком.
Среди былых приближенных Марка Аврелия, заключенных в казармах, сенатор Аполлоний выделялся своей безмятежностью. Для Пертинаксов, Юлианов, Викториев, поскольку все они виделись ежедневно, его поведение служило некоторой поддержкой. Они в один голос не без юмора определяли его как «последнего после усопшего Марка Аврелия истинного философа Империи».
Впрочем, горизонт мало-помалу светлел. Помпеанус отказался от власти, его друзья больше не представляли опасности. Вот почему никого по-настоящему не удивляло, что приговоры выносились довольно мягкие. Так Юлиана всего лишь отправили в ссылку в Медиоланум, Пертинакса — в его родное селение, в Лигурию. Даже Викторий, чья неукоснительная прямолинейность могла сравниться лишь с его несусветной искренностью, избежал худшего.
Почему же при подобных обстоятельствах Аполлоний испытывал какие-то тягостные предчувствия? Ведь, помимо всего прочего, он в этом деле был, вне всякого сомнения, скомпрометирован менее всех прочих. Его сестра Ливия, его друзья, его рабы и клиенты, христианская община — все передавали ему успокоительные известия, слали подарки, лакомства, которые он, впрочем, без промедления раздавал другим узникам и даже преторианцам, которые надзирали за ним.
В то утро, тяжелое, душное, два гвардейца в полном парадном облачении — шлемы с гребнями, резные кирасы, пурпурные плащи, накинутые на плечи, — повели его в суд.
Тигид Перенний, префект преторских когорт, совершенно так же, как Помпеанус, был всадником сирийского происхождения. От своих предков он унаследовал матовый оттенок кожи, кучерявые волосы и бороду и естественную склонность к полноте. Тем не менее, его воспитание и путь к успеху по самой сути носили не восточный, а чисто западный характер. Аполлоний знал его талантливость в военном деле, ведал и то, что именно он, Перенний, обучал этому искусству Коммода, что и привело его ныне на один из ключевых постов государства.
Он восседал в курульном кресле в центре неширокого мраморного помоста с восковой дощечкой на коленях, а по бокам застыли двое стряпчих, готовясь делать заметки. За их спинами виднелась клепсидра, ронявшая капли воды с монотонностью, придающей этим голым, холодным стенам еще больше суровости и знобящей торжественности.
Перенний и Аполлоний учтиво приветствовали друг друга, и префект начал с вопроса, выбрал ли сенатор себе адвоката. Обвиняемый спокойно отвечал, что намерен защищать себя сам, коль скоро закон это допускает.
— Ты знаешь, по каким пунктам тебя обвиняют?
— Конечно. Предполагается, что я причастен к покушению на убийство императора.
Перенний подавил вздох:
— Если бы только это! Я сей же час мог бы тебя освободить.
— Стало быть, мне приписывают другое преступление?
— Вчера ночью один человек явился, чтобы тебя изобличить: ты христианин.
Ну вот, подумал Аполлоний, час настал.
— Ты сказал. Да, так и есть: я христианин.
Префект разом насторожился, подался вперед:
— Ты не можешь не знать, что участие в недозволенных сообществах, согласно законам Империи, карается смертной казнью.
— Я знаю законы.
— Послушай, Аполлоний, ты же философ, ты не чета этой швали, которая может утверждать любую чушь, сколько вздумается. Неужели ты пожертвуешь жизнью ради удовольствия отстаивать какую-то бредовую идею?
— Если я правильно понимаю тебя, префект, ты приговоришь меня не за то, что я христианин, а потому, что я признал это публично?
Перенний в замешательстве уперся подбородком в ладонь, почесал пальцем щеку и напомнил:
— Этого требует императорское правосудие, основы которого заложены самыми справедливыми и высокородными правителями.
— Но ты согласишься, что этот обычай столь же нелеп, сколь несправедлив.
Перенний раздраженно отмахнулся:
— Res publica[21] во все времена терпит ущерб от секты христиан. Это прямая угроза порядку! Сам факт твоей причастности к этой секте ставит тебя в один ряд тех, кто угрожает безопасности государства, то есть заговорщиков.
— Ну, — отозвался старик-сенатор, — если ты действительно убежден в том, что говоришь, тебе следует вынести этот приговор без малейших колебаний. Тем паче, что я был арестован по подозрению в заговоре против нашего правителя.
— Ты признаешь Коммода законным императором?
— Я всегда говорил, что это не тот правитель, какой нужен Империи, но никогда не ставил под сомнение его законных прав. Это тем очевиднее, что христианские заповеди предписывают отдавать кесарево кесарю и чтить порядок, ибо власть ниспосылается от Бога.
— В таком случае ты не можешь отказаться сжечь несколько зерен ладана перед статуей нашего Августа?
— Нет, этого я не сделаю. Ты ведь знаешь, император объявляет себя земным божеством. Воскурить ему фимиам было бы для меня равносильно вероотступничеству.
— Значит, ты хочешь умереть?
— Мое единственное желание — жить во Христе. Отойдя от него, я стал бы мертвецом.
— Твой ход мысли изумляет меня, Аполлоний. Пересмотри свое поведение. Я дам тебе три дня на размышление.
— Ни три дня, ни три года не заставят меня поступить иначе.
Преторианцы отвели Аполлония обратно в камеру. В ближайшие часы слухи о том, какой оборот принял этот допрос, стали распространяться внутри казармы, а затем и поползли по городу, вызывая изрядное волнение. Три дня спустя, когда префект и сенатор вновь встретились лицом к лицу, первый, как ни парадоксально, казался куда более взбудораженным, нежели второй. Образ действия Аполлония ставил префекта в положение до крайности досадное: дело в том, что Коммод по приказу покойного отца дал клятву ни при каких обстоятельствах не предавать сенатора казни. Да и терпимость, проявленная в отношении Помпеануса и его друзей, в немалой степени объяснялась желанием создать у народа благоприятное представление о юном императоре. И если приговор, вынесенный Луцилле и ее сообщникам, был единодушно одобрен гражданами, расправа над столь уважаемым человеком, как Аполлоний, должна была встретить совсем другую реакцию...