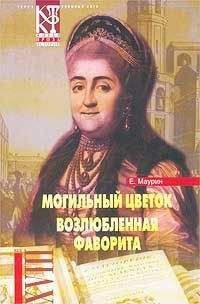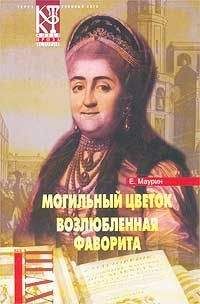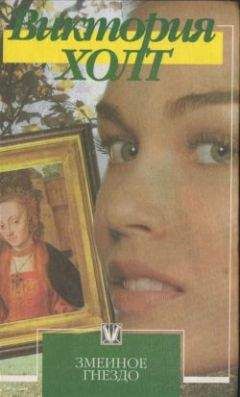И снова кровь огневым ключом билась в виски, снова вихревая страсть кружила голову…
Бежали сутки, и все труднее становилось мне обуздывать зверя, пробудившегося в крови с неукротимой силой. Мои ночи превратились в хаос страстных кошмаров, мои дни — в пытку общения с Аделью. А она, словно не замечая моих мук, все усугубляла свою нежность, все беспощаднее жгла меня томными взглядами голубых глаз. Я чувствовал, что недолго выдержу, что давно таящаяся страсть должна будет прорваться, и этот взрыв может вылиться в очень непривлекательные формы. Я пытался отстраниться от Адели, но, чем сильнее было воздействие ее ужимок и ласк, тем настойчивее льнула она ко мне. И наконец то, чего она так долго добивалась, случилось!
В этот день я пришел из конторы позже обыкновенного. Я нарочно придумал для себя экстренную работу, потому что мне страшно было возвращаться домой. Накануне Адель весь вечер просидела со мной на диване, близко прижимаясь ко мне и положив головку мне на плечо. При этом она жаловалась на свою судьбу, которая, наделив ее красотой, не дала возможности пользоваться молодостью. Правда, мужчины домогаются ее, они готовы наперебой сложить у ее ног свое состояние, но ведь так противно отдаваться не любя! А ведь ей страстно хочется любить и быть любимой! Стоят такие чудные дни, весна так щедро и пышно осыпала природу своими дарами, и как хорошо было бы теперь бродить, взявшись за руки, с милым другом в каком-нибудь старом парке за городом! Потом вернуться домой — в простенький деревенский дом, единственным убранством которого являются цветы… Вернуться и знать, что тебя сейчас приласкает тот, кто тебе дороже всего на свете и кому ты тоже дороже всего… Приласкаться самой и забыться… О, какое неземное блаженство пожить так хотя бы дня два!
Мне стоило нечеловеческих усилий сдержаться и не смять Адели в бешеных объятиях. Но я чувствовал в то же время, что это последняя капля сил и что, повтори Адель такую сцену и в этот день, я не в силах буду обуздывать долее зверя пламенеющей страсти. Вот почему я так медлил с возвращением домой и с таким страхом брался под вечер за ручку двери нашего дома.
Адель, видимо, ждала меня и, заслышав мои шаги, выбежала ко мне навстречу, причем без дальних слов попросту бросилась мне на шею.
— Братишка! — радостно визжала она. — Как я счастлива, как я довольна! Иди ко мне, что я тебе покажу! — и с этими словами она потащила меня за руку в будуар, где на столе искрилась всеми цветами радуги бриллиантовая диадема, стоимостью не в одну тысячу экю (Экю по нынешнему курсу около четырех рублей.), а рядом белел кусок бумаги. И то, и другое составляли предмет радости и гордости Адели: бумажка при внимательном рассмотрении оказалась письмом маркизы де Помпадур, в котором королевская фаворитка сообщала, что его величество был огорчен вестью об утрате, постигающей французскую сцену с отъездом такой даровитой артистки, и шлет ей вместе с монаршим благоволением маленький подарок. В тоне письма ясно чувствовалось, что этот подарок сделан по представлению и выбору самой маркизы и что это самое обыкновенное «отступное», почти даже незамаскированное. И во фразе, в которой маркиза желала Адели и впредь не терять свойственного ей благоразумия, слышалась скорее ирония, чем желание сказать любезность.
Но для таких тонкостей Адель была недостаточно чутка, и подарок искренне приводил ее в восхищение.
— Нет, ты подумай, братишка, — тормошила она меня, — ты только подумай, вот это я называю поступить по-королевски! Мало ли у его величества было таких, как я! Что я для него — пестрая бабочка, на миг залетевшая в комнаты. Но эта бабочка хоть на мгновение доставила королю отраду, хоть на мгновение усладила его жизнь, и он уже не способен взвешивать и считать! Ведь этот «маленький подарок» — целое состояние! Да, правду говорят, что у королей нет возраста! Такого короля можно любить, будь он уродлив, как сатана, и стар, как Винцент Сенлисский! (Церковь, построенная в 1053 г. женой Генриха I, дочерью великого князя Ярослава, Анной, в благодарность за разрешение ее от неплодия по молитве святому Викентию.) Какой дар, какой щедрый дар!
У меня кровь хлынула в виски. Я довольно неделикатно бросил на стол диадему, которую как раз рассматривал, и сказал, плохо сознавая, что этими словами обнаруживаю свою мучительную страсть:
— Щедрый дар! Старому, изнуренному пьянством и разнузданностью псу молодая прекрасная девушка отдает все, что она имеет — красоту, молодость, весеннюю прелесть души; он кидает ей за это одну стотысячную часть своего богатства, и это называется поступить по-королевски! Да ведь Людовик захлебывается в роскоши, ведь эту подачку — да, да, не щедрый дар, а подачку! — он бросил тебе так же, как кинул бы голодной собачонке корку хлеба с полного стола! Да разве счастье обнимать твой стан…
Я остановился на полуфразе: страсть душила меня и судорогой сводила горло.
Лицо Адели вспыхнуло радостью, голубые глаза засверкали торжеством.
— За счастье обнимать мой стан ты дал бы, братишка, больше? — вкрадчиво сказала она, положив мне руки на плечи и кокетливо улыбаясь.
— Больше? — простонал я, окончательно подхваченный и унесенный страстной волной. — Да за один миг разделенной любви, за мимолетное право называть тебя своей я отдал бы все, что у меня есть, все богатства земли, все, все… Но у меня ничего нет… О, лучше тысячу раз умереть в жесточайших муках, чем пылать такой безграничной страстью и сознавать свое ничтожество, сознавать, что нет ничего, ничего…
— Нет, братишка, ты не прав, — пылко сказала Адель, почти вплотную приближая к моему лицу расширенные от волнения глаза, — у тебя многое есть, чем ты богат и что ты мог бы подарить мне. У тебя есть жизнь, свобода, воля! Поклянись, что ты отдашь все это мне, и я твоя! Посмотри на меня, разве я нехороша, разве я не стою того, что прошу у тебя? Ты молчишь? Ты колеблешься? Гаспар, ведь тебя ждет такое счастье, о каком ты не мог мечтать даже во сне!
Она ошибалась: я не колебался. Я просто молчал, потому что был скован, ошеломлен возможностью счастья, о котором до того действительно не смел мечтать даже и во сне. И не будучи в силах выговорить хоть слово, я вместо ответа схватил Адель и скомкал ее упругое, гибкое тело в своих неуклюжих, сильных, медвежьих объятьях.
Но Адель змейкой вывернулась из моих рук и воскликнула:
— Сначала клятву, Гаспар!
Тогда я хриплым, задыхающимся голосом повторил за нею подсказываемые ею слова, в которых клялся вечным блаженством, спасением души моих родителей и честным словом дворянина, что если Адель станет моей, то я на всю жизнь буду принадлежать ей, не имея ни собственной воли, ни свободы, ни личной жизни, беспрекословно исполняя все, чего бы она от меня ни потребовала.