– Глаза сына – прямо как у отца…
Варгасову стало не по себе. Неужели их несхожесть так очевидна? Но в конце концов он ведь может походить и на мать? Дима приглядывался к проводнику. Далеко не молодой человек, а занимается таким опасным делом! И видно, что оно для него не в диковинку… Прибыльное, наверное, судя по тому, сколько запросил для проводника Муслимов! А может, и не только для проводника?
В полночь, когда село уже спало, двинулись в путь. Шли молча, гуськом, почти на ощупь. Тьма стояла непроглядная, на небе не было ни звездочки – все заволокло туманом! Но старик вел уверенно: проторенная, должно быть, тропка… Примерно через полчаса проводник обернулся:
– Скоро уже… Обычно советские пограничники сюда, не заглядывают, а вчера их здесь видели… Так что идите тише!
– А как на той стороне? Не попадем под обстрел? – спросил Максим Фридрихович.
– Ну что вы, агаи! Там – свои люди, хорошо меня знают… Ш-ш-ш…
Вдруг совсем близко раздался пронзительный свист, и старик, как подкошенный, рухнул на землю. Отец и сын не заставили себя просить. «Что же это такое? – лихорадочно соображал Дима. – Наши пограничники? Но они же предупреждены! И потом – зачем им свистеть? Может, проводник не надежен? Вон как прячет под себя сверток! Явная контрабанда…» Они стали уже мерзнуть, когда старик наконец подал сигнал: пошли!
– Пастухи, наверное… – прошептал непослушными, то ли от холода, то ли от испуга, губами. – Еще совсем не много…
Тропа кончилась, и начались заросли колючего кустарника, который больно царапался. «Сасапарили это, что ли?» – вспомнил Дима, интересовавшийся во время подготовки даже фауной и флорой тех мест, где предстояло обосноваться. Но одно дело – справочники и пособия, а другое, когда этот кустарник вспарывает тебе кожу…
– Иншалла! – негромко произнес старик, и Кесслеры остановились: раз «иншалла», значит, будет объявлено что-то важное. И вправду!
– Сейчас мы перейдем границу. Во имя Аллаха милостивого и милосердного… – еле слышно напутствовал их проводник. И они снова двинулись вперед.
А через несколько мгновений раздался вздох облегчения, и старик громко, уверенно возвестил:
– Мы на персидской земле.
– Браво! – устало откликнулся Максим Фридрихович. Путь был непривычным и нелегким для пятидесятилетнего человека: то чуть ли не ползком, то сквозь заросли. Дима, шедший впереди, придерживал колючие ветки, но, видно, не до конца уберег Кесслера: тот все прикладывал к щеке платок, наверное, ободрал…
Вскоре они пришли в деревню, мазанки которой одинаково кончались островерхими соломенными крышами. Вскочив, залаяла привязанная к телеге собака. Но проводник прикрикнул, и она мирно улеглась на прежнее место.
Старик зашел в дом, и там тотчас засветилось окно, а на пороге, приглашая беглецов войти, появилась зевающая персиянка с русским цветастым платком на плечах. Через пару минут вышел хозяин, застегивавший на ходу рубашку: проводник почтительно приветствовал его.
Женщина, поймав взгляд мужа, быстро собрала на стол – то бишь, на ковер. Но было не до еды: давали себя знать усталость и напряжение. Всем больше хотелось спать, чем есть. Поэтому довольно скоро разошлись по своим углам. Лишь хозяин с проводником еще долго колдовали над свертком, что так оберегал старик…
Кесслеры знали, что «друг из Тегерана» велел доставить их в имение помещика Ашрафи, где надо будет ждать документы, которые позволят спокойно жить в столице.
Утром отец с сыном на ослах покинули деревню. Дима с любопытством озирался по сторонам. Но ничего интересного не увидел! Унылая голая степь… Бесснежные поля… Редкие глинобитные деревушки… Вот тебе и загадочный Иран!
Гилянское имение Ашрафи выглядело ничуть не хуже того, где двадцать лет назад Кесслер с Шелбурном отмечали переход помещика на службу к англичанам и присутствовали на диковинной охоте на уток. А село при нем было даже побогаче: дома каменные, под железными крышами.
Ашрафи встретил беженцев как самых желанных гостей:
– Мир вам! Мы слышали, что у вас некоторые неприятности. Тем больше наша радость теперь, когда мы видим вас здесь в добром здравии…
Типичная дань Востоку! А так помещик выглядел стопроцентным европейцем. Да и обед состоял из французских блюд – не то что в семнадцатом году…
– Люблю эту кухню! – сказал Ашрафи. – Она и острая, и нежная, и оригинальная!
Кесслер в ответ лишь улыбнулся: он хорошо помнил, что хозяин весьма подвержен влияниям. Наверное, кто-то из сильных мира сего похвалил, допустим, луковый суп в горшочках, а Ашрафи – тут как тут.
Но как только гости уедут, Максим Фридрихович в этом не сомневался, и хозяин, и слуги перелезут в просторные персидские одеяния, а по всему дому разольется запах дешевого бараньего сала: Ашрафи был скуповат, особенно в мелочах…
Через неделю в шикарном экипаже помещика гости прибыли на ближайшую станцию: накануне была получена условная телеграмма, из которой стало ясно, что документы готовы и можно выезжать. А еще через день натужно вздыхающий паровоз подтащил состав к перрону Тегеранского вокзала.
Сразу же к Кесслерам подошел незнакомый молодой человек и вручил им запечатанный конверт: ошибиться он не мог – в этом поезде больше не было европейцев. Не дожидаясь, пока вскроют конверт, молодой человек безмолвно удалился. В памяти осталось лишь удлиненное лицо с сильно выдвинутой нижней челюстью, расплющенные уши да нос со сломанной переносицей… Парень, видно, увлекался боксом.
В конверте оказались все необходимые документы и записка, напечатанная на машинке, без обращения, без подписи. Максима Фридриховича приглашали в «известный ему особняк»: Шелбурну не терпелось увидеть своего подопечного, спасенного и облагодетельствованного.
И вот они встретились в английском посольстве. Кесслер был бледнее обычного: утомительный переход, ожидание документов, долгое хождение по улочкам засыпающего города, чтобы выявить, нет ли «хвоста», – все сказалось. Максим Фридрихович произвел на мало изменившегося полковника неважное впечатление.
– Да-а-а… Двадцать лет! – философствовал тот, открывая бутылку виски. – Сейчас немного выпьете, и жизнь покажется не такой уж скверной штукой! Как жаль Ольгу-ханум… В ней было столько шарма! А какие глаза?
Заметив, что от этих слов Кесслеру стало совсем худо, Шелбурн замельтешил:
– А моя Лилиан совсем старушкой стала, хоть и бодрится… Грустный возраст для женщины, привыкшей нравиться…
Максим Фридрихович лишь пригубил рюмку, но и этого было достаточно, чтобы усталое лицо его слегка порозовело.
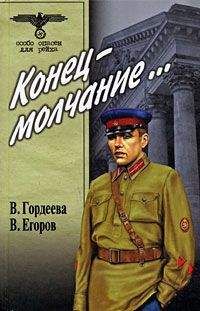
![Владлен Бахнов - Иван Васильевич меняет профессию [альбом]](https://cdn.my-library.info/books/20345/20345.jpg)



