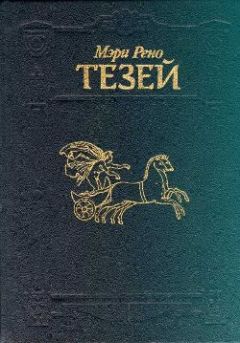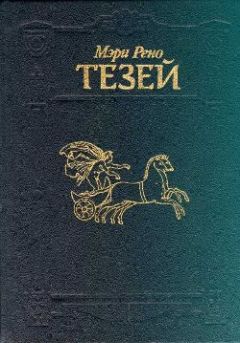День я проводил в ожидании ночи. Иногда засыпал в полдень – до самого вечера; а потом не спал до зари. На брачном жертвоприношении я едва заметил, что, хотя убивать приходилось мне, приношение совершала царица, а ведь это подобает делать царю. На играх я победил в метании копья и прыжках, а еще в дурацком конском ристалище на невысоких минойских коньках. Выиграл я и стрельбу из лука, несмотря на то что око мое утомило недосыпание.
Борьбы не было вовсе, должно быть, считалось, что она уже состоялась. Но если вы думаете, что игры проводились в память усопшего царя, то ошибаетесь: почесть эту воздавали мне. С глаз долой, из сердца вон; так отнеслись здесь к его памяти, случалось, я дольше скорбел по сдохшему псу. Более того, теперь я стал Керкионом. Так принято звать элевсинских царей; это как фараон в Египте или Минос на Крите. Словом, муж этот не оставил после себя даже имени.
Шли дни, и дела во дворце направились своей чередой. На равнине упражнялось войско – метали копья в туго набитую свиную шкуру, стреляли по цели. Но это дело, как я понял, меня не касалось. Военный предводитель не может сменяться каждый год, и войском предводительствовал Ксанф, брат царицы, муж для минойца рослый, с желтоватыми лисьими глазами и рыжими волосами, которые, в отличие от волос сестры, совсем не красили его. Есть рыжие мужи с горячим норовом, есть с холодным. Он был из последних. Ксанф разговаривал со мной свысока, как взрослый с юношей, и я сердился; пусть он старше на двенадцать лет, но все-таки царь здесь не он – я только недавно возложил сан на свои плечи.
Каждый день царица устраивала приемы. Зал наполнялся одними женщинами, и я не сразу понял, что она вершит дела царства, не спрашивая меня. Однако эти жены были главами своих семей: они приходили, чтобы разрешить земельный спор, поговорить о царской доле или о размере приданого. Отцы ничего не значили в Элевсине: не они выбирали жен для своих сыновей, те даже не наследовали их имен, не говоря уже о собственности. Мужи теснились позади, пока не выслушают всех женщин; а если царице нужен был совет мужа, она посылала за Ксанфом.
Однажды ночью в постели я спросил ее: неужели царю нечего делать в Элевсине? Она с улыбкой ответила:
– О, конечно есть. Расстегни ожерелье, оно запуталось в моих волосах. – Не шевельнувшись, я глядел на нее, и она добавила: – Зачем царю сидеть, как писарю, с уродливыми стариками? – А потом сбросила пояс и юбку и подошла ближе ко мне. – Посмотри-ка, как здесь напряглось. Мне даже больно. – В ту ночь более разговоров не было.
Сразу после того я случайно узнал, что она принимала посольство с Родоса, но мне ничего не сказала. Я услыхал об этом на нижней террасе от слуг и просто замер на месте: с детства мне не наносили подобного оскорбления.
«За кого она меня принимает? – подумал я. – Или решила, что мне нужна нянька, потому что борода под лисьими глазами ее брата гуще моей? О Зевсовы молнии! Я ведь убил ее мужа». Гнев затуманил мои глаза.
Вокруг меня послышались голоса – говорили юные спутники, почти всюду сопровождавшие меня. Впрочем, я почти не различал их – не было времени приглядеться:
– Что случилось, Керкион?.. Что встревожило тебя?.. Ты не заболел?.. Нет, он сердится… Керкион, что я могу для тебя сделать?..
Я отговорился какими-то пустяками. Гордость мешала мне признаться в унижении. Но в ту ночь, когда ушли женщины, я спросил царицу, что хотела она показать этим жестом.
Она взглянула на меня удивленным взором, похоже и в самом деле не понимая, что рассердило меня. А потом сказала, что ничего не сделала против обычая, и я понял – она говорила правду. Что же касается унижения… Распустив волосы, она поглядела сквозь них и рассмеялась.
Забрезжил рассвет – золотой и зеленый. Прядь рыжих волос щекотала мою грудь. Подняв ее, я выскользнул из постели и подошел к окну. За искрящимся морем над золотым туманом плыли холмы Аттики – так близко, что казалось, до них долетит пущенная из лука стрела. Я думал о странных обычаях землепоклонников и о том, как сложно эллину понять их. Она выбрала меня и послала бороться, возвела в цари, не спросив при этом – как и все вокруг, – согласен ли я с такой мойрой.
Засвистела пробудившаяся белая птица. С постели донесся совершенно ясный голос:
– Ты думаешь. А о чем ты думаешь?
Я ответил ей тем способом, который она предпочитала. Из всех ее мужей я оказался первым эллином.
Но с этого дня я словно бы очнулся от сна, в котором прошли мои первые долгие дни в Элевсине: танцуя, состязаясь с молодыми мужами, играя на лире или же глядя на море. Я начал искать, чем заняться: не люблю бездельничать.
У меня под рукой были молодые спутники. В случае войны я, по крайней мере, смогу возглавить собственный отряд, и пусть Ксанф ведет остальное войско. С этого времени я обратил на них свое внимание.
Как я уже сказал, эти юноши никогда не оставляли меня, кроме того времени, когда я делил ложе с царицей. Все они были прекрасно сложены, хорошо воспитаны и хороши собой, иначе не оказались бы на этом месте; их выбирали за стать, а не за бранные подвиги. Я не нуждался в их защите, потому что в Элевсине ничего не страшились сильнее, чем преждевременной смерти царя. Его убийцу после многих мук живым оставляли в гробнице, дабы дочери Ночи свершили над ним свою волю. Но подобное случалось давно, и то по несчастью. И спутники служили украшением, приятным для глаз народа.
Все они в той или иной мере знали эллинскую речь, что свидетельствовало здесь о благородном происхождении. Поначалу – когда я стал разговаривать с ними – они показались мне слишком тщеславными, полными мелкой ревности и соперничества; на малейшую обиду они реагировали как облитые водой коты и вечно старались посрамить друг друга.
Ко мне они относились с любопытством, видя во мне прежде всего эллина. А еще – как я узнал потом – из-за какого-то пророчества, скрывавшегося от народа. Я вспомнил горький смех убитого мной царя, но он ничего не открыл мне.
Судя по всему, до сих пор они ничем не занимались – лишь играли в подобающие воину упражнения. Впрочем, отваги им было не занимать, и я подумал: все, кто был здесь царем до меня, слишком покорно несли свою участь. Но я – где бы ни оказался и что бы ни увидел – всегда пытаюсь взять дело в собственные руки.
Во дворцах мужи скоро лишаются бодрости, и я повел своих юношей в горы. Поначалу они шли неохотно: элевсинцы – люди равнин и презирают горы, а их скудную каменистую землю считают пригодной лишь для волков и разбойников. Я спросил тогда, что же они делают, когда соседи приходят красть скот, если не знают свои же порубежные земли. Они относились к набегам спокойно и нередко отпускали безнаказанными мегарийцев, стремившихся возместить собственные потери от истмийских разбойников.