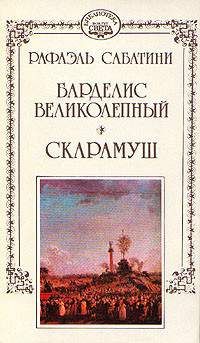Не успел Марсак ответить мне, Кастельру уже стоял рядом со мной.
— Тысяча извинений! — засмеялся он. — Даже глупец мог догадаться, зачем вы выпрыгнули в окно, и только глупец мог подозревать, что вы хотите сбежать. Я вел себя недостойно, господин Лесперон.
Я повернулся к нему и, пока все стояли с разинутыми ртами, отвел его в сторону.
— Господин капитан, — сказал я, — вас терзают угрызения совести из-за тех арестов, которые вам приходится совершать, не правда ли?
— Mordiou! — красноречиво согласился он.
— И если вы случайно услышите разговор каких-либо людей, и их слова выдадут в них мятежников, хотя вы никогда бы о них этого не подумали, ваш долг солдата, тем не менее, заставит вас задержать их, так?
— Ну да. Боюсь, что так, — скривился он.
— Но если вас заранее предупредят, что, находясь в определенном месте, вы услышите такие слова, какой путь вы изберете?
— Побегу оттуда, как от чумы, сударь, — быстро ответил он.
— Тогда, господин капитан, могу я еще раз воспользоваться вашим великодушием и попросить вас позволить мне отвести этих спорщиков в нашу комнату и оставить нас там на полчаса?
Искренность была лучшим оружием в общении с Кастельру — искренность и его отвращение к тому, чем ему приходилось заниматься. Что касается Марсака и Лесперона, они оба жаждали получить мои разъяснения, и когда — с разрешения Кастельру — я пригласил их в свою комнату, они с радостью согласились.
Поскольку господин де Лесперон не узнал меня, я решил не сообщать ему свое имя. У меня были все основания для этого. Как только они сели на стулья, я сразу же приступил к сути дела без всяких прелюдий.
— Две недели назад, господа, — сказал я, — меня преследовал отряд драгунов, и я был вынужден переплыть через Гаронну. Я был ранен в плечо и падал от изнеможения, поэтому я постучал в ворота Лаведана и попросил укрытия. Это укрытие, господа, было мне предоставлено, а когда я назвался господином де Леспероном, ко мне отнеслись еще более радушно, потому что некий господин де Марсак, который является другом виконта де Лаведана и сторонником герцога Орлеанского, часто говорил о господине де Леспероне как о своем лучшем друге. Я не сомневаюсь, господа, что вы осудите меня за то, что я ввел виконта в заблуждение. Но у меня были на это причины, о которых, я надеюсь, вы не будете спрашивать, так как я вряд ли смогу ответить вам правду.
— Но вас зовут Лесперон? — раздался возглас Лесперона.
— Это не имеет значения, сударь. Лесперон я или нет, я признаю, что вел себя двулично по отношению к виконту и его семье, так как я, естественно, не тот Лесперон, которого изображал. Но поскольку я принял ваше имя, сударь, я также взял на себя ваши обязательства, и надеюсь, что вы будете милосердны и сможете простить меня. В качестве Рене де Лесперона из Лесперона в Гаскони я был арестован прошлой ночью в Лаведане, и, как вы смогли заметить, меня везут в Тулузу, чтобы предать суду по обвинению в государственной измене. Я не протестовал; в трудную минуту я не отказался от имени, которое помогло мне, когда это было нужно. Я отведал и горечи и радости, и, уверяю вас, господа, горечи было гораздо больше.
— Но так не должно быть, — воскликнул Лесперон, вставая. — Я не знаю, как вы использовали мое имя, но у меня нет никаких оснований считать, что вы каким-либо образом запятнали его, и поэтому…
— Благодарю вас, сударь, но…
— И поэтому я не могу позволить, чтобы вы отправились в Тулузу вместо меня. Где этот ваш офицер? Пожалуйста, позовите его, и мы все поставим на свои места.
— Вы очень великодушны, — спокойно ответил я. — Но я совершил достаточно преступлений, и поэтому, если со мной случится самое худшее, я просто отвечу за нас обоих.
— Но это меня не касается! — вскричал он.
— Это как раз очень вас касается. Если вы совершите эту страшную ошибку и назоветесь, вы погубите себя, не сделав при этом никакой пользы для меня.
Он по-прежнему возражал, но в конце концов мне все же удалось убедить его, что, выдав себя, он не спасет меня, а только пойдет со мной вместе на эшафот.
— Кроме того, господа, — продолжал я, — мой случай не такой уж безнадежный. У меня есть все основания полагать, что если я в нужный момент назову свое настоящее имя, то, если мне этого захочется, смогу спасти свою голову от плахи.
— Если вам этого захочется? — воскликнули они оба, вопросительно глядя на меня.
— Пусть будет так, — ответил я, — в данный момент это не самое главное. Я хочу, чтобы вы поняли, господин Лесперон, что если я отправлюсь в Тулузу один, то, когда выяснится, что я — не Рене де Лесперон из Лесперона в Гаскони, все решат, что вас нет в живых, а меня признают невиновным. Но если вы поедете со мной и тем самым представите доказательство того, что вы живы, мое стремление выдать себя за вас может погубить меня. Они решат, что я — ваш сообщник, что я хотел обмануть правосудие и что я назвался вашим именем для того, чтобы помочь вам избежать наказания. За это, можете быть уверены, меня сурово накажут.
Теперь вы понимаете, что я буду в безопасности, если вы тихо покинете Францию и заставите всех поверить, что вас нет в живых — эти слухи быстро распространятся, как только я откажусь от вашего имени. Вы понимаете меня?
— С трудом, сударь. Возможно, вы правы. Что ты скажешь, Станислас?
— Что я скажу? — вскричал пылкий Марсак. — Я сгораю от стыда, мой бедный Рене, что я мог так плохо думать о тебе.
Он собирался еще что-то сказать в этом же духе, но Лесперон прервал его и попросил заняться более важным вопросом. Они долго не могли принять решение, так как я напустил много тумана, но наконец, ободренные моими заверениями, что для меня будет лучше, если Лесперон не поедет со мной, они согласились на мои предложения.
Марсак был уже готов к отъезду в Испанию. Его сестра, сказал он нам, ждет его в Каркасоне. Лесперон должен немедленно отправиться вместе с ним, и через сорок восемь часов они будут вне досягаемости.
— Я хочу попросить вас об одном одолжении, господин де Марсак, — сказал я, вставая. — Если у вас будет возможность связаться с мадемуазель де Лаведан, не могли бы вы ей сказать, что я — не тот Лесперон, который помолвлен с вашей сестрой.
— Я скажу ей об этом, сударь, — с готовностью ответил он; и вдруг в его глазах появилось выражение понимания и откровенной жалости. — Боже мой! — воскликнул он.
— Что такое, сударь? — спросил я, пораженный его внезапным возгласом.
— Не спрашивайте меня, сударь, не спрашивайте. На мгновение я забыл, разволновавшись от всех этих откровений. Но… — он замолчал.
— Что, сударь?
Он задумался, затем снова посмотрел на меня с тем же сочувствием.