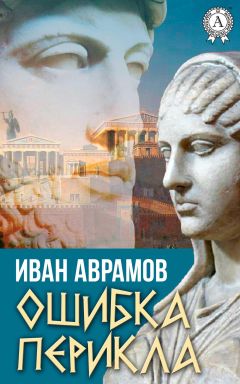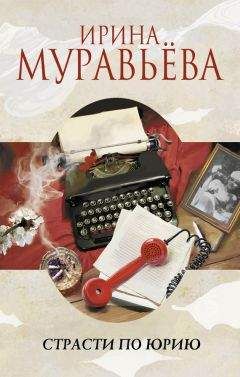Искусен был Атис, ох, и искусен! Подобно тому, как от умника-философа не укроется смысл самого мудреного словечка, так и сей лекарь-массажист ведал, где и на что воздействовать, чтобы в теле опытного воина, многажды раненного, как хмель, заиграла кровь.
Основательно размяв хозяина, Атис занялся втиранием благовоний, хранимых в доброй дюжине флакончиков, пузырьков и кувшинчиков. С некоторых пор Сострат полюбил их сложное благоухание, хотя Клитагора, принимая его по ночам у себя в гинекее, морщилась: «В моих объятиях суровый афинянин или изнеженный мидиец?» Однако ее недовольство Сострата лишь слегка забавляло. Обыкновенно он отвечал, что только теперь почувствовал вкус к настоящей жизни, и Клитагоре уже след привыкать не только к просторному, купленному в красивейшем Керамике жилищу, обильной и вполне изысканной еде, проворным слугам, но и к новым запахам. Та слушала его вроде бы снисходительно, но от Сострата не укрывалось то, насколько он вырос в глазах супруги. Ничего, впрочем, удивительного: не так уж много воды утекло с тех пор, когда он, как старый лис, поприжал Меланта-зайца, а жизнь Сострата и всего его семейства изменилась неузнаваемо. Сострат уже не нищий горемыка, а вполне состоятельный афинский гражданин. И пусть у него не шестьсот рабов, как у богача Гиппоника,[122]а всего-навсего три, ничего, все еще впереди. Он еще обзаведется целой кучей несвободных. Вот что значит взять за шкирку, как кролика, не одного Меланта, а еще пять таких же, как тот, прохвостов, у которых рыльце в пушку, а мошна туга, как вымя у коровы. Впрочем, Сострат, которому в уме никак не откажешь, позаботился о том, чтобы в глазах гелиэи он выглядел как честный неподкупный гражданин, превыше всего ставящий благо родного полиса. Еще пятерых, уличенных им в мелких прегрешениях, довел до суда. Трепыхались, конечно, пробовали откупиться, но тут же сникали, увидев на лице сикофанта неподдельное, напополам с презрением, удивление. Сострат в душе смеялся: неужто этот круглый дурак Ксенофан, владеющий крохотной гончарной мастерской, где у него в подручных один, как перст, раб, думает, что Сострат способен мелочиться, соглашаясь получить в качестве отступного жалкие семь драхм? А преступление горшечника состояло в жестокосердном обращении с «телом», с которого не сходили синяки и ссадины…
«До чего все-таки упоительна хоть и маленькая, но власть над людьми», — не раз думал Сострат, замечая, что люди начинают его уважать и бояться. Он был благодарен Клитагоре: ведь это она наставила его на путь истинный, ни разу, между прочим, об этом не напомнив. Иногда Сострат даже думал, что эта дельная мысль пришла в голову ему самому. Умная, чего уж тут, у него жена, знает свое место. А как радостно заблестели у нее глаза, когда он вчера объявил, что вот еще поднакопят они малость, и он отдаст двух сыновей в учение к опытному софисту. Дороговато, конечно, берут нынешние мудрецы за уроки — по сто мин с носа, но что поделаешь: лучше быть ученым и украшать собой пиры-симпосионы, где собравшиеся будут жадно ловить каждое твое слово, лучше сладко есть, сладко пить да сладко любить, чем умело, бесстрашно махать в сече мечом, зарабатывая себе славу, а, возвратясь с войны домой, обжираться горьким луком да чесноком. Умный и ушлый превосходит того, кто храбр и силен. И тут уж никакой умник не переубедит Сострата в обратном.
Тело после манипуляций Атиса пело, как струна на кифаре. В просторное слюдяное окно, в открытую настежь дверь заглядывал ясный осенний день, освеженный утренним дождиком. И от того, что в голове, подобно пчелам над лужицей патоки, роились бестревожные, радостные мысли, что природа на дворе дышала мягкой осенней отрадой, что жизнь, которая впереди, сулила чересчур много хорошего и заманчивого, остро захотелось дать себе поблажку, получить некое острое удовольствие.
— Ступай, Атис, к тем двоим да присмотри, как они управляются, — велел рабу. — Ты ведь помнишь — жертвенник должен быть готов к первому дню маймактериона.[123]После обеда возьмешь с собой на рынок фракийца, купите две амфоры оливкового масла. Гляди, чтобы не подсунули какую-нибудь прогорклую дрянь. Да, у нас, кажется, и вино на исходе. Возьмешь лесбосского.
— Да, хозяин, — с легким полупоклоном ответил Атис.
Сострат встал с довольно высокой кушетки, на которой удобно было делать массаж и различные втирания, прошелся в некоторой задумчивости по комнате: что бы ему сегодня надеть? Облачился в короткий дорический хитон, поверх которого накинул новый прямоугольный гиматий. Ногам было удобно в дорогих, надеванных всего пару раз, сандалиях. Что-то неприятно кольнуло в сердце и тут же мгновенно оформилось: жаль, ах, как жаль, что пришлось расстаться с древней чернофигурной вазой и продать ее какому-то… Филоксену?… Фанию?… Да нет же — какому-то, ясно теперь вспомнил, Фукидиду. Единственная семейная реликвия — в чужих руках. Но кто знал, что удастся так быстро вырваться из нужды, если не сказать — нищеты? Ничего не поделаешь, вздохнул Сострат, так было угодно богам.
Он направился в гинекей. Клитагора вместе с двумя служанками пряла великолепную фригийскую шерсть, которую удалось купить по сходной цене.
— Моя новая хлена будет красивой и теплой, — не удержалась, похвасталась перед мужем.
— Ну-ну, — одобрил Сострат. — И когда же ты предстанешь предо мной с обновкой на плечах?
— Понадобится, пожалуй, еще одна декада. Мы ведь чередуем работу с забавами. Посидим тут еще немного, а потом выйдем, поиграем с девушками в мяч.
— Что ж, я рад за тебя, дорогая Клитагора. Жди меня к вечеру. Я иду в город.
— По делам?
— А разве без них обойдешься? — развел руками Сострат.
Идя на рынок, он думал о том, как несказанно похорошела Клитагора, хотя ей уже и чуток за сорок. Правильно подметил слепой аэд Гомер — в страданиях люди быстро старятся. И не зря еще говорят: «Богатого тебя и боги полюбят». Только в поговорке этой сокрыто некоторое противоречие: разве придет в твой дом достаток и благополучие, если олимпийцы от тебя отвернутся? Выходит, все зависит от самого человека? «Оставлю эту умственную закавыку философам, — Сострат, как и всякий воин, мудрствовать не любил. — Как раз за это их приглашают на симпосионы, угощают вином и вкусно кормят. Ведь, участвуя в умной беседе, хозяева кажутся себе умнее, чем они есть на самом деле. И гости их тоже делают умные рожи, хотя вместо этого с удовольствием сыграли бы в коттаб[124]или кости».
Так, раздумывая, Сострат и не заметил, как оказался на агоре — привычное, казалось, зрелище, но как завораживает, ослепляет великолепие этих бесконечных рядов, где выставлено все, что дают здешние земля и море, что произрастает в киммерийских степях и знойных ливийских далях. Агора не только ослепляла, но и оглушала — разноголосыми криками горшечников, колбасников, рыбаков, пирожников. Брадобреи зазывали клиентов, зеленщики наперебой расхваливали спаржу, салат, щавель, порей, укроп, петрушку, торговцы зерном, доставленным из северных колоний, утверждали, что самый вкусный хлеб получается из их пшеницы. Молочники клялись, что нет ничего лучше на свете сицилийского сыра, а хиоссцы и лесбоссцы, степенно прохаживаясь перед своим товаром — громадными амфорами с вином, приглашали его отведать, хвастливо крича, что с их виноградной лозой не сравнится никакая другая во всей Элладе, и это, по справедливости, была сущая правда. Купцы с Эвбеи и Родоса были, кажется, пропитаны запахом их несравненных яблок, груш, поздних сортов слив величиной с детский кулак, фиг, которые до того спелы и сочны, что прямо тают во рту, — куда ни глянь, наполненные с верхом корзины, сплетенные из гибких ивовых прутьев, лукошка, ящики. Ноздри щекочет тонкий, до одури аппетитный аромат жирнющих копченых угрей — ими снабжают Афины никто иные, как неотесанные беотийцы. Жаль, поросят на рынке нынче мало — Перикл запретил строптивым мегарянам торговать с Афинами и союзными городами. Авось, эта удавка их образумит, избавит от косоглазия — так ведь и смотрят в сторону Спарты.