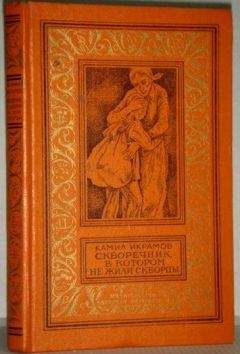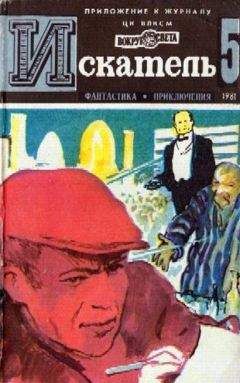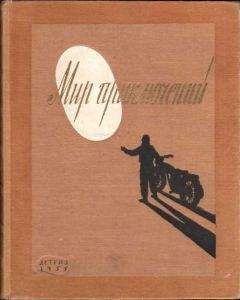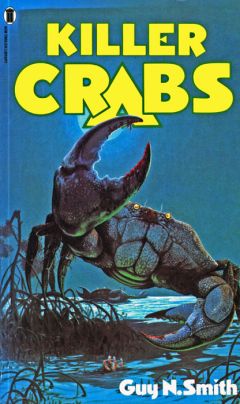— Нет, правда? — спросил я.
— Могу дать исчерпывающий ответ, — чуть шире улыбнулся Владимир Васильевич. — Теплотворная способность керосина достаточна высока, а при определенных режимах горения он удобней бензина. Надеюсь, ты абсолютно все понял.
Я абсолютно ничего не понял и ответил так:
— Теперь мне все ясно. Можете быть уверены, что я никому об этом не скажу.
— Значит, понял, — во весь рот улыбнулся Владимир Васильевич и поднял чемодан.
Мы стали спускаться вниз. У подъезда я увидел светло-бежевый «ЗИС-101». Шофер стоял у открытой дверцы и этим торопил отъезжающих.
Наверно, все завидовали Ишиным. Во всяком случае, я завидовал. Они были первыми людьми в нашем доме, которые летели самолетом. До войны на самолетах в нашем доме не летал никто, ну, кроме самого Владимира Васильевича. Даже Гаврилов не летал. По-моему, до войны на самолетах вообще летали только летчики и полярники. Это теперь все летают: и в гости, и в отпуск, и в командировку, и даже в пионерские лагеря на юг. И между прочим, подавляющее большинство теперешних самолетов летают на керосине. Во всяком случае, все реактивные и турбовинтовые.
Машина тронулась, свернула за угол. А мы стояли у подъезда: Егор Алексеевич, Андрей Глебович, Галя, тетя Лида и я. Стояли и смотрели.
Из-за колокольни на углу появились два человека. Я сразу узнал Шурку и участкового Зайцева. Они шли к нам, оба усталые и хмурые.
— Поймали? — спросила тетя Лида.
— Нет, — коротко ответил Зайцев.
— Толика поймали, — сказал мне Шурка. — Он говорит, что Петын с новыми документами уехал в Ташкент.
— Эх, — вздохнул Гаврилов, — шпионов ловили, а фашиста упустили. Нужно, чтоб люди с детства могли отличать человека от фашиста.
Егор Алексеевич говорил это всем. Он смотрел куда-то поверх наших с Шуркой голов, но мне казалось, что он смотрит на меня и что все смотрят на меня.
Во второй половине октября 1941 года, когда фронт придвинулся к Москве и через поля совхоза, где мы летом просили машину, пролегли противотанковые рвы, а над Москвой вперемешку со снегом летали фашистские листовки, когда над Мавзолеем был воздвигнут двухэтажный фанерный дом с мезонином, когда на улицах в центре города появились долговременные огневые точки, когда мы с Шуркой помогали строить баррикады возле нашего моста, а на ближних улицах стояли надолбы, — Сережа Байков и Галя Кириакис ушли на фронт.
У Гали была справка об окончании курсов медсестер. За Сережу хлопотала комсомольская организация.
Они ушли на рассвете, когда из репродукторов возле кинотеатра звучала первая песня той поры — «Священная война».
В тот день после работы к тете Лиде пришел Андрей Глебович. Он долго сидел за столом, мешал ложечкой чай в стакане, но не пил его. Просто сидел за столом, ничего не говорил и мешал ложечкой чай в стакане. До сих пор я слышу, как позвякивает эта ложечка.
Вечером, как всегда, была воздушная тревога.
Я вылез на крышу и увидел, что Москва вся белая белая…
Было холодно. Замерзла вода в пожарной бочке. На крыше мы теперь сидели в зимних пальто и шапках.
— В магазинах только кофе остался, — сказал Шурка. — Даже крабов нет.
Мы были на крыше вдвоем с Шуркой.
Я представил себе, как шагает по дороге Сережа Байков — белобрысый, с белыми бровями и белыми ресницами. Он идет в шинели с винтовкой. А рядом с ним шагает Галя. Из-под пилотки — черные кудри, на боку — санитарная сумка, и поет она песню из кинофильма «Остров сокровищ»:
Если ранили друга,
Перевяжет подруга
Горячие раны его…
«Погоди, — подумал я, — постой! Зачем же это?»
Я не хотел, чтобы Сережку ранили. Я хотел, чтобы он всегда был абсолютно здоров и никто его не перевязывал.
Сережка погиб в 1943 году, Шурка — в 1945. Мой год на фронт не попал, и я вот живу.
ТОНКИЙ, ЗВОНКИЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ
Его заметили сразу. На нем были крепкие кожаные ботинки, толстые суконные брюки, черная гимнастерка, широкий ремень с белой бляхой и буквами «РУ», фуражка с лакированным козырьком.
— Как с выставки, — сказал кто-то.
А кто-то еще догадался:
— Так, наверно, и сняли с выставки.
Вскоре мы смогли убедиться в верности такого предположения. В нашем красном уголке были витрины с изделиями лучших учащихся из довоенных выпусков: шестерни и шестеренки, валы и валики, штангенциркули, микрометры — продукция фрезеровщиков, токарей и слесарей-инструментальщиков. Там же, на самом видном месте, под стеклом, распяленная на гвоздях, висела законная форма РУ. Такую форму ученикам ремесленных училищ выдавали до войны.
Так вот теперь эта витрина была пуста.
Мы все ходили в чем попало, а со склада нам выдавали только бывшие в употреблении спецовки, телогрейки и ватные брюки. Новичку мы не завидовали, хотя заинтересовались им. Высказывались предположения, что он родственник кого-то из работников училища. Дело в том, что по возрасту да и по росту ему еще рано было к нам. Видимо, сделали исключение. И форму с витрины сняли из-за этого, да еще потому, конечно, что она была очень маленького размера и вряд ли подошла бы кому-нибудь другому.
Выглядел новенький плохо. Худой, бледный и какой-то настороженный. Сам он ни с кем не заговаривал, на вопросы отвечал односложно.
Про таких говорят: тонкий, звонкий, прозрачный, шейка лапшевная, а ножки макаронные.
Фамилия у него была самая обычная, не запоминающаяся — Семенов. По фамилии его вначале никто не звал.
— Эй, ты, с выставки, принеси концы!
Или:
— Звонкий, сбегай за эмульсией!
Он каждого из нас слушался.
Его почти не обижали, вернее, он никогда не обижался. Однажды помощник мастера Вано Григорян перепутал его простую фамилию:
— Эй, Степанов! Сбегай в кузнечный, узнай насчет поковок.
Новенький как ни в чем не бывало перестал подметать и побежал в кузнечный цех. Дотошный Вано потом заметил свою ошибку и спросил:
— Зачем же ты меня не поправил? Ты ведь Семенов, а не Степанов.
— Вы не беспокойтесь, пожалуйста, — ответил новенький. — Семенов, Степанов, Иванов, Сидоров, Николаев — какая разница! Я ведь своей настоящей фамилии все равно не знаю. Не помню.
— Это как же так? — удивился Григорян. — Беспризорник, что ли?
— В прошлом году я, наверное, помнил свою фамилию, а в этом не помню.