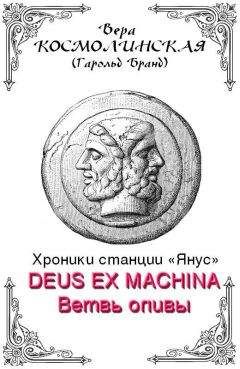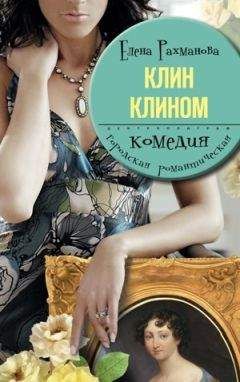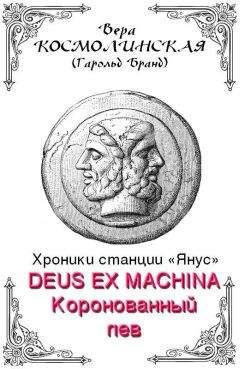И все-таки, в этом был такой соблазн.
Даже в том, чтобы стать «последней сволочью». Чтобы поменьше беспокоиться о происходящем, о последствиях своих действий.
Именно потому я и медлил, глядя на пузырек — потому что это было так соблазнительно.
Но чем тянуть и чем ждать новых опасностей…
Притертая пробка оказалась скользкой, и открыть флакончик одной рукой, не вылив его содержимое, было не так-то просто. Эта мелочь меня разозлила — тем больше, чем сильнее я сомневался в правильности того, что делаю. Так, как дела обстояли сейчас, мне совсем не нравилось. Беспомощность и неизвестность — верный способ сойти с ума. Особенно, когда есть шанс легко от них избавиться. Эта легкость — уже сомнительного свойства. Но если можешь кому-то помочь и не делаешь этого, то это уже просто трусость. Какой выход тут ни выбери, всегда будет в чем себя обвинить. В том, что потакаешь соблазну или в том, что прячешь голову в песок. Лучше уж не в последнем. И так слишком много упущено, и действовать надо быстро, именно в то время, в которое иначе от тебя не будет никакого толка.
Наконец пробка была вынута. Пальцы сводило от напряжения, рука подрагивала, и лучше было перевести дух. Несмотря на злость, я был аккуратен и ювелирно осторожен. «Может быть, последний раз в жизни?» — подумал я ехидно, и усмехнулся.
Вряд ли я думаю, что это серьезно, если разыгрываю сам с собой такой театр.
Прищурившись, я примерился к открытому флакончику и осторожно отпил половину его содержимого. Дверь была незаперта. Но какого черта? Или все будет в порядке, или — уже неважно.
И все же, на всякий случай, я постарался ни о чем не думать, зажмурившись и крепко сжав пузырек в кулаке, чтобы не вылить остаток — пробку закрою потом…
Часа через два я сидел за столом в своем кабинете и пытался постигнуть логику Линна. Почему он наметил главное выступление на Варфоломеевскую ночь? Это имело для него какое-то практическое значение или только символическое? Да, конечно, чем время смутнее, тем «мутнее вода», но при его возможностях все можно было сделать исподволь, не зацикливаясь на датах и исторических событиях, которые легко отменить. Так может, для него это имело какое-то иное значение? Попустительство до нужной поры, а затем — картинная кара грешникам, докатившимся до подлого братоубийства? Роль Немезиды, божьего гнева, небесного правосудия? И как с этим вяжется то, что он сам готов был развязать это братоубийство, если бы что-то пошло не так? Его люди должны были убить Колиньи, если этого по какой-то причине не сделает Гиз. Просто потому, что он знал, что так должно быть. Он знал о «намерении согрешить», а кто «согрешил в сердце своем», тот все равно, что согрешил на деле. Остальное — декорации и воля провидения. Он ждал, когда род людской достигнет вершины скверны в выбранном им клочке времени и пространства. Это будет «правильно» и «идеально», назидательно в своей основе, пусть даже никто не сумеет оценить урока и не будет подозревать, что должно было происходить на самом деле.
Прежде чем наслать казни египетские, надо ведь не забыть ожесточить сердце фараона, чтобы он не прислушался к Моисею. А потом за это наказать весь Египет. Вполне божественно, на чей-то взгляд.
И только поэтому король и его семейство еще в порядке. Они должны находиться в своем первозданном грешном состоянии. Если, конечно, они на самом деле в порядке. Ведь ясно, что к ним должен быть «индивидуальный подход», как к отцу Франциску. Они не должны походить на обычных хранителей. Не обязаны обладать теми же установками.
Но будь я Линном и стремясь к «совершенству», я бы и впрямь отложил нисхождение благодати до эффектного часа в своей пьесе. Тут есть только одна тонкость — я не Линн. И многое допуская, я могу упускать какие-то мелочи, которыми он руководствуется.
Одно ясно. Готовиться столько лет и теперь отступить — невозможно. Кажущееся затишье не может быть долгим. Оценив ситуацию, он пустит в ход запасной план. Быть может, найдя в этом свои «совершенные» стороны. Он ведь, в какой-то степени, ждал нас. И вот, мы здесь. Он дождался.
Я сделал глубокий вдох, закрыл глаза и задержал дыхание. Удивительно. Легче. Хотя действие было почти незаметным. На меня по-прежнему то и дело накатывали приступы головокружения, и довольно сильные, но тяжесть и разбитость понемногу отступали. Других серьезных изменений я в себе не замечал. Кроме того, что сидел уже не в надоевшей мне постели, а в кресле, не чувствуя при этом, что скоро умру от усталости. Если все пойдет хорошо, через день-другой я уже сумею выйти из дома не только подышать в сад. Вот только неясно, нужно ли будет повторить… или все же крепко садиться на этот крючок не стоит. Первый пузырек опустел. Легко и незаметно. Когда мне показалось, что ничего особенного не происходит, я допил остаток. Теперь было бы неплохо переговорить с Изабеллой, поделиться впечатлениями, но ее в доме не было. Как не оставалось никого из наших. Все отправились куда-то, куда я пока не мог за ними последовать.
Раздался знакомый стук в дверь, вызвавший у меня мгновенный всплеск раздражения.
— Войдите! — немедленно отреагировал я, чуть удивившись этому раздражению.
Заглянувший в приоткрытую дверь Мишель был бледен и серьезен. И я тут же подумал, что странная вспышка, возможно, вызвана его нервозностью, с которой он постучал. Он нервничал, и это передалось мне — я уловил его настроение. На него самого у меня не было причин сердиться. И это лучшее объяснение происходящему.
Его взгляд остановился на мне довольно ошарашенно. Затем Мишель, проскользнув в дверь, плотно прикрыл ее за собой. Растерянно кашлянул, и то отводя взгляд, то тревожно меня им окидывая, приблизился.
— П-простите… — пробормотал он, намеренно стараясь говорить как можно тише. — Но как вы себя чувствуете, ваша милость? Т-там — господин П-пуаре… Он к вам…
Я изумленно посмотрел на Мишеля. «С каких пор ты заикаешься, дружище?» И тут же сам себе ответил — наверное, с тех самых, с каких моих гостей выносят из дома бездыханными.
— Ты думаешь с ним что-то не так?
— Э, нет… не знаю, не думаю, что с ним…
Про отца Франциска тоже никто ничего плохого не думал. Я выдвинул ящик стола. Сверху на бумагах лежал заряженный пистолет, положенный туда совсем недавно. А прямо на столе, как обычно, всегда можно было отыскать парочку стилетов. Правда, один из них протыкал пачку исписанных листков бумаги, а другой покоился в футляре. Тот самый. Вчерашний.
Еще один вздох, для проверки. Все неплохо. Если не накатит очередной приступ, врасплох меня не застать.
— Ну что ж — впусти его.