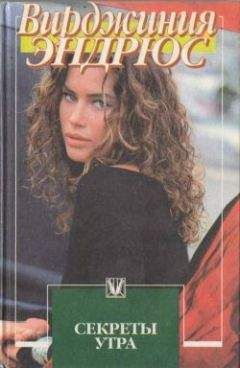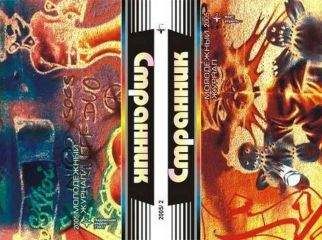Светлана чувствовала, как с холодами и ранними сумерками ей становится все труднее бороться с собою.
14
Третий день дул холодный восточный ветер. Он нес из России дождь со снегом. Река надулась и поднялась.
В комнате Светланы, на пятом этаже, вой бури был страшен и зловещ. Дождь барабанил в стекла. Казалось, кто-то темный и сердитый назойливо стучит костлявыми пальцами. Мокрые снежинки плотными пятнами прилипали к стеклу, точно чьи-то белые глаза заглядывали в бедную комнату русских эмигрантов, без ставен и занавесей. Дом был на окраине города, и снежному вихрю было привольно носиться по обширным пустырям.
Все эти дни Светлана ощущала особое беспокойство. Сейчас, когда наступила ночь, какая-то неоформленная мысль вдруг охватила ее тягучим томлением.
Светлана почувствовала: она пойдет к Пинскому.
«Не пойду», — говорила она себе. Говорила и ощущала, как сзади на ее затылок кто-то словно нажимал сильною рукою. Впечатление было такое отчетливое, что Светлана несколько раз невольно хваталась рукою за голову и, хватаясь, боялась коснуться чужой руки.
«Сегодня?» — мысленно спросила она и стала вспоминать, на какой день, говорил ей Пинский, назначена черная месса. — Да, сегодня».
Светлана тихонько, незаметно от матери, достала из сумочки золотое кольцо, данное ей Пинским, и надела на палец. Стало ясно: теперь уж не отступить. Вспомнила про расписку кровью. Да, не отступить.
Она встала и прошла в угол за свою постель, где висели ее платья.
«Конечно, то белое, короткое, в котором я была весной у Франболи и у “него” в первый раз…»
Ей было неприятно переодеваться при матери. Мать спросит, начнутся аханья: куда, зачем, в такую погоду. «Ах, все равно…»
Она взялась за платье. В то же мгновение электричество погасло.
Тамара Дмитриевна со вздохом отложила работу.
— Где ты, Лана?.. Что ты там делаешь?.. — В голосе матери было беспокойство. — Как это скучно с электричеством! Какая буря! Не порвала ли провода? Я зажгу свечу. Ты мне почитаешь пока, Лана.
— Погоди, мама.
Голос Светланы внезапно для нее самой стал уверенным и спокойным. В темноте проворными и ловкими движениями она сбросила с себя обычное платье, надела чистое белье и свое лучшее белое платье. Торопилась, но знала непонятным знанием, что свет не вспыхнет раньше, чем надо. Движения ее были точны, гибки, легки и размерены. Она словно видела в темноте, что достать и что надеть. Казалось, невидимые руки подавали ей все, что нужно.
Светлана надела шапочку, потом свой осенний красно-коричневый гладкий impermeable [12], взяла зонтик и скользнула за дверь.
Дешевый отель, где они жили, был погружен во мрак. Далеко внизу, у конторы, горел огарок. Светлана уверенно нашла во мраке лестницу, взялась рукой за холодные, железные перила и стала быстро спускаться.
Когда она была у первого этажа, она услышала, как на верхнюю площадку со свечою вышла мать.
— Лана! Куда ты? — крикнула она. — Куда ты, Лана?
Голос матери дрожал от испуга. Он проник до самого сердца Светланы. Она почувствовала: если оглянется, вернется назад.
Она не оглянулась. Хлопнула в подъезде выходная дверь. Отель по-прежнему был во мраке.
Тамара Дмитриевна со свечою в руке вошла в номер. Вспыхнуло электричество, озаряя комнату с разбросанными в углу бельем и платьями Светланы. Дождь по-прежнему стучал в стекла.
Тамара Дмитриевна опустилась в кресло и беспомощно заплакала.
15
Теперь для Светланы все было ясно и определенно.
Все шло просто, твердо и уверенно, точно само собою. Едва вышла из переулка на большую улицу, на остановке, точно дожидаясь ее, стоял трамвай. Светлана вскочила туда. В ярко освещенном вагоне не было никого. Кто поедет в такую погоду? Но Светлана не ощущала холода.
Мутными желтыми пятнами светились окна магазинов. Город был пуст. Редкие прохожие шли торопливо, нагнувшись вперед и борясь с ветром.
Светлана доехала до той улицы, где жил Пинский, и вышла из трамвая. Холодный ветер окрутил ее мокрое пальто около ног. Зонтик трепетал в руках, спасая только лицо и шляпу. На плечах наросли пушистые эполеты из снега. Здесь, на окраине, все было бело от рыхлого, глубокого снега. Деревья качались и махали ветвями, выла проволока на столбах.
Светлана не успела даже позвонить, как калитка открылась. Сам Пинский, весь в черном, ее ожидал. Он провел ее через сад. Они вышли на другую, темную улицу. Здесь, на снегу, четко чернел большой «господский» автомобиль с погашенными фонарями. Пинский открыл дверцу и жестом пригласил Светлану садиться. Все делалось молча. Шофер завел внутренним заводом машину, она дрогнула и, шелестя прочными, темными, туго надутыми шинами по снегу, покатилась по улице. Светлана не видела, куда ее везли. Снег залепил окна. Машина шла быстро по гладким мостовым, потом замедлила ход, ее бросало по ухабам и рытвинам немощеной улицы. Внезапно остановились. Шофер открыл дверцу.
— Здесь? — спросил он.
Пинский выглянул.
— Да, здесь.
Светлана вышла за Пинским.
Свежо и отрадно пахло снегом, ширью, полями. Пустынная, узкая уличка с деревянными, покрытыми снегом панелями была почти без фонарей. Светлана увидала высокие заборы, сады, маленькие еврейские хатки городского предместья. Вдали в снеговых вихрях высилась неуклюжая громада шестиэтажного доходного дома. Ни одно окно не светилось.
Они стояли у высокого деревянного забора с набитыми на верхней доске гвоздями. Пинский своим ключом открыл калитку. От калитки расчищенная от снега, мокрая дощатая дорожка шла через сад к большому одноэтажному дому. Все ставни в нем были наглухо заперты, и он казался необитаемым.
Однако едва они поднялись на крыльцо и вошли в открытую дверь, как душистый, жаркий воздух, пропитанный запахом какой-то смолистой гари, пахнул в лицо Светлане. В прихожей, где на столе, заваленном мужскими и женскими шляпами, в высоких бронзовых подсвечниках горело три свечи, пахло мокрым платьем. Под длинной вешалкой, завешанной шубами, были лужи воды.
Две старые женщины, одна высокая, тощая, в модном черном платье, с низким декольте и с жемчугами на темной морщинистой груди, другая толстуха в коротком до колен платье, бросились навстречу Светлане.
— Сюда, сюда, пани, — суетливо и почтительно говорили они и, подхватив Светлану под руки, повели ее в боковую комнату, тускло освещенную одной свечой.
— Ножки-то мокрые… Ах… беда-то какая, — говорила толстуха.
Они усадили Светлану на кресло, сняли с нее шляпу, сняли башмаки и чулки. Толстуха спиртом и шершавым полотенцем обтирала мокрые ноги Светланы.