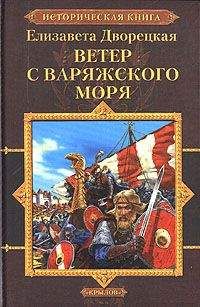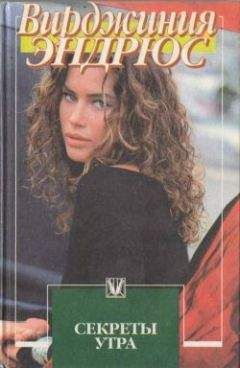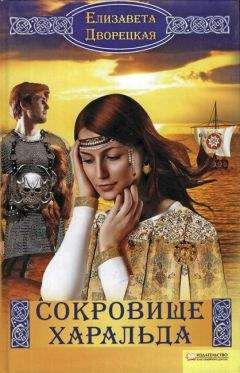«От Путяты посадника – князю Владимиру, – не прочитал, а только узнал он первую строчку, выведенную знакомой рукой Путятиного ларника[19], и скорее скользнул взглядом к следующей. – Как ты ушел с войском, на десятый день пришли печенеги ордой неисчислимой и Белгород обложили, хотят измором брать. Белгородцы тебе бьют челом, помощи просят».
На этом послание кончалось – Путята не просил князя возвращаться и не спрашивал, что делать. Оба они одинаково хорошо знали свои ратные дела. Владимир Святославич опустил руку с зажатой в кулаке свернувшейся берестой. Еще бы белгородцам не просить помощи – две трети белгородской дружины были с ним здесь. Лучшие полки Киева, Переяславля, Чернигова, Овруча он увел сюда, на чудь. И случилось то, чего он боялся, – печенеги узнали об его уходе и решили воспользоваться беззащитностью Киевщины. Но и поступить иначе Владимир не мог —ему как воздух нужна была чудская дань, чтобы было на что строить сторожевые города в той же Киевщине, снаряжать и содержать многочисленные дружины. Он уводил оттуда рати, прекрасно сознавая опасность, но другого выхода у него не было.
Гридница затихла. Сначала киевляне, внимательно следившие за своим Солнышком, а потом и, словены заметили, как с лица князя исчезло веселье. Услышав тишину, Владимир выпрямился и крепче сжал бересту в руке, так что высохшие острые краешки впились в ладонь.
– Братья и дружина! – заговорил Владимир, и голос его был ясен и тверд. – Много врагов у нас, что с полуночи[20], что с полудня[21]. Узнали печенеги, что я с войском здесь, и обложили Белгород осадой. Люд белгородский и киевский подмоги просит.
По гриднице прокатился гул, кмети из белгородской дружины повскакали с мест. Они-то хорошо знали, о чем говорит князь, и каждый подумал о своей семье, которой грозит опасность смерти или рабства. А они, мужья, отцы и защитники, слишком далеко и не могут помочь.
– Что скажете, други мои и воеводы? – спросил князь, уже зная, чего хочет он сам. – Покинем ли город-щит киевский? Покинем ли мать городов на разоренье?
Первыми заговорили воеводы, потом закричали и простые кмети из дружин нижних земель – защитить родную землю было важнее, чем покорить чужую. Только Ратибор молчал.
– А ты что скажешь? – Владимир повернулся к своему первому советчику.
– Я вот что скажу, хоть и не всем по нраву, – решительно заговорил воевода. – Князь с войском – не заяц, чтоб туда-сюда бегать. Мы на чудь не первый год собираемся и не первый раз идем, в прошлом году ходили – да дело не доделали. В этот пришли – коли опять ни с чем уйдем, так над нами в лесу последний чудин смеяться будет. Дескать, князь киевский только на словах грозен, а на деле – горазд за столом с пирогами воевать.
Люди в гриднице возмущенно гудели, но Владимир молчал, и Ратибор продолжал, не обращая внимания на общее недовольство. Немного находилось людей, способных говорить против всей дружины, но Ратибор был из них. Без него и Владимир, может быть, никогда не стал бы киевским князем.
– Стены у Белгорода высокие да крепкие – птица не всякая перелетит, а стрела и подавно, – говорил воевода. – И у Киева стены не хуже. Пусть печенеги стоят, сами же раньше уморятся. А мы сейчас всей силой чудь разобьем и тогда уж вернемся, как надо на орду ударим. Тогда они и дорогу к нам позабудут.
Тряхнув кулаком, Ратибор опустился на место – он свое сказал. Сын его, Ведислав, сидевший за столом с Владимировыми детскими[22], побледнел после отцовской речи, хотя внешне остался невозмутим. В белгородской дружине служил его побратим, а в Киеве были его мать и молодая жена, которой за время этого похода как раз подходил срок родить. И в мирное время тяжело оставить семью в такую пору. А знать, что им грозит печенежский набег – нет хуже. Но Ведислав молчал – по большому счету он признавал правоту отца.
– Выслушал я вас, дружина моя и братья мои, – заговорил Владимир, немного выждав. – И вот что мне думается. И вы правы, и Ратибор прав. И Киевщину без помощи оставить нельзя, и в чуди дело оставить недоконченное зазорно[23]. Потому надлежит нам одною частью дружины назад, на печенегов воротиться, а смоленские и новгородские рати на чудь пойдут. И вместо себя оставлю я в Новгороде княжить сына моего Вышеслава. Ему я доверяю быть сему походу главою. Говорите, мужи новгородские, люб ли вам князь Вышеслав?
В гриднице ненадолго повисла тишина. Вышеслав, потрясенный не меньше других, шагнул вперед от порога, где стоял, войдя вслед за Путятиным посланцем. Сотни глаз устремились к нему, а он побледнел, глубоко дыша, взволнованный таким неожиданным поворотом. Для него не было тайной, что после смерти Добрыни Новгороду нужен новый посадник, а может, и князь. Как старший сын Владимира, он понимал, что новгородский стол должен достаться ему. Но прямо сейчас, и так нежданно!
– Нам люб твой старший сын, княже, – заговорил самый родовитый из новгородцев, боярин Столпосвет. – Да мы сами не можем дело решить. Надобно вече[24] созывать и у всего люда новгородского спрашивать. А мы свое слово скажем. Нам князь Вышеслав люб.
Опомнившись, новгородцы одобрительно загудели. Молодой, удалый княжич Вышеслав нравился им еще и тем, что после сурового и властного Добрыни новгородская знать надеялась при нем получить гораздо больше воли. Вышеслав перевел дух, ощутил даже радость – все-таки зваться князем и быть самому себе хозяином не в пример веселее, чем жить при отце.
Повернув голову, он нашел взглядом мать, сидевшую рядом с князем. Лицо княгини Малфриды оставалось спокойным и величавым, и Вышеслав не понял, довольна она или нет. Поймав его взгляд, княгиня чуть-чуть улыбнулась и слегка наклонила голову. Вышеслав хотел улыбнуться ей в ответ, и вдруг его словно обожгло что-то. Двоюродный дядька, Коснятин Добрынин, смотрел на него с такой ненавистью, что Вышеслав был поражен его взглядом как громом. «За что? Что я ему сделал?» – изумился он. За проведенное в Новгороде время Вышеслав не успел не только поссориться, но даже толком поговорить со старшим сыном Добрыни. Посмотрев на мать, он заметил, что лицо ее посуровело и замкнулось – она тоже глядела на Коснятина. И Вышеслав понял. Сын Добрыни унаследовал властолюбие отца. Он сам метил на место посадника, а может быть, и мечтал о княжьей шапке. И он мог бы их получить как родич князя и сын прежнего посадника – не будь у Владимира столько сыновей.
– А нам не нужно никого спрашивать! – среди возбужденного гудения гридницы сказал громкий, уверенный голос, произносящий слова на варяжский лад. Сотник княгининой дружины Ингольв Трудный Гость поднялся на ноги и поднял рог с медом. Высокий, широкоплечий, он казался живым воплощением уверенности и силы. На груди его блестела витая серебряная гривна, длинные светлые волосы были зачесаны назад, за уши, а лоб украшала шелковая лента с полоской золотой парчи. Вышеслав уже знал, что этот человек, сидящий на таком высоком месте, служит главной опорой княгини Малфриды.