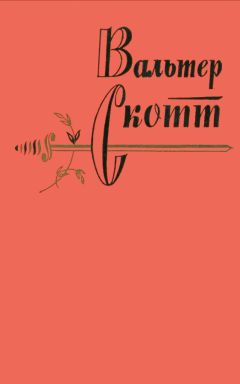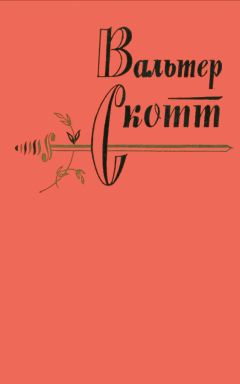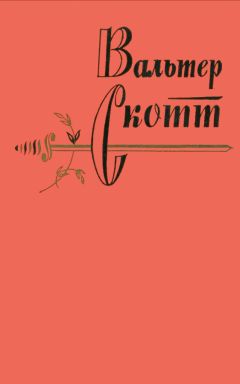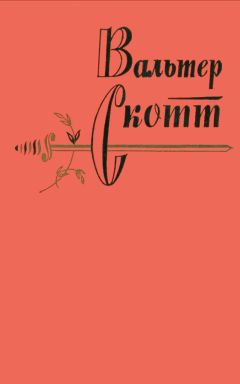Мы расстались, так и не объяснившись друг с другом, и увиделись только три дня спустя на прощальной трапезе, которую хозяин устроил для Дика по случаю его отъезда в Эдинбург.
Я застал Тинто в превосходном расположении духа: он насвистывал, укладывая в котомку краски, кисти, палитру и чистую рубашку. Внизу, в зале, нас ожидали холодная говядина и две кружки отличного портера, из чего я заключил, что Дик уезжает, не нарушив доброго согласия с хозяином. Признаться, любопытство мое было сильно возбуждено, и мне не терпелось узнать, каким образом дела моего друга так внезапно поправились. Я не мог заподозрить Дика в сообщничестве с дьяволом и терялся в догадках.
Он заметил мое нетерпение и, взяв за руку, сказал:
— Друг мой, я охотно скрыл бы даже от тебя унижение, через которое мне пришлось пройти, чтобы иметь возможность пристойно распрощаться с Гэндерклю. Но к чему пытаться скрыть то, что все равно обнаружится само собой! Все селение, весь приход, весь свет скоро увидят, на что толкнула бедность Ричарда Тинто.
Внезапная догадка вдруг осенила меня — я заметил, что в это памятное утро хозяин разгуливал по гостинице в совершенно новых бархатных панталонах, сменивших старые, заношенные штаны.
— Как! Ты снизошел до отцовского ремесла! — воскликнул я и, сложив щепотью пальцы правой руки, быстро провел ею от бедра к плечу, словно делая наметку. — Ты взялся за иглу? Эх, Дик!
В ответ на это нелепое предположение Дик только нахмурился и фыркнул, что означало у него крайнее возмущение, а пройдя со мной в другую комнату, указал на прислоненное к стене изображение величественной головы сэра Уильяма Уоллеса, столь же обратной, как в тот момент, когда ее сняли с плеч по приказу вероломного Эдуарда. Картина была написана на толстой доске, увенчанной железной скобой, и, по-видимому, предназначалась в качестве вывески.
— Вот, друг мой, — сказал Тинто. — Вот слава Шотландии и мой позор. Или, вернее, позор тех, кто вместо того, чтобы поощрять художников, помогая им служить искусству, толкает их на подобные недостойные и низкие поделки.
Я старался успокоить моего обиженного и возмущенного друга. Я напомнил ему, что не следует уподобляться оленю из известной басни, презирая талант, который вывел его из затруднения, тогда как другие его высокие качества портретиста и пейзажиста оказались бессильны ему помочь Я особенно хвалил исполнение, равно как и замысел картины, уверяя, что он не только не покроет себя позором, представив на всеобщее обозрение столь совершенный образец таланта, но, напротив, приумножит свою славу.
— Ты прав, друг мой, ты бесконечно прав, — ответил Дик, обращая на меня восторженно горящий взгляд. — Зачем мне стыдиться звания.., звания… (он искал нужное слово) уличного живописца. Разве Хогарт не изобразил себя в таком виде на одной из лучших своих гравюр? Доменикино или, возможно, кто-то другой — в былые времена, Морленд — в наши дни не гнушались работать в этом жанре. Где это сказано, что только богатые и знатные должны наслаждаться произведениями искусства, тогда как они рассчитаны на все классы без изъятия. Статуи выставляют под открытым небом, так почему же, показывая свои шедевры, Живопись должна быть скареднее своей сестры Скульптуры? Однако, дорогой мой, нам пора прощаться! Сейчас придет плотник, чтобы повесить эту.., эту эмблему, а, право, несмотря на все мои рассуждения и твои утешающие речи, я предпочел бы расстаться с Гэндерклю до того, как произойдет это событие.
Мы отведали угощения, предложенного нам добросердечным хозяином, и я пошел проводить Дика по дороге в Эдинбург. Мы простились в миле от селения в ту самую минуту, когда раздалось радостное «ура», — это мальчишки приветствовали водружение новой вывески с изображением головы Уоллеса. Дик Тинто прибавил шагу, чтобы скорее уйти подальше от веселых криков, — ни прежнее ремесло, ни недавние рассуждения не могли примирить его с ролью живописца, малюющего вывески.
В Эдинбурге талант Дика был замечен и оценен по заслугам. Несколько прославленных знатоков искусства удостоили его своими советами и приглашением на обед. Но господа эти оказались более щедрыми на советы, чем на деньги; по мнению же Дика, последние принесли бы ему больше пользы, нежели первые. Поэтому он избрал путь на Лондон, эту всемирную ярмарку талантов, где, однако же, всегда больше товару, чем покупателей.
Дик, за которым всерьез признавали недюжинные способности к живописи и чье самолюбие и сангвинический характер не позволяли ему усомниться в конечном успехе, ринулся в толпу тех, кто толкается и дерется из-за славы и чинов. Одних ему удавалось отпихнуть, другие отталкивали его. Наконец благодаря своему упорству он добился некоторой известности: писал картины на приз Общества, выставлялся в Соммерсет-хаузе и осыпал проклятиями учредительный комитет, но так и не одержал победы на избранном поприще, на котором сражался с таким бесстрашием. В изящных искусствах не существует середины между блистательным успехом и полным провалом, а так как рвение и усердие не помогли Дику обеспечить себе славу, он подвергся всем тем несчастьям, кои выпадают на долю безвестности. Некоторое время ему покровительствовали два-три знатока, почитавшие за доблесть слыть оригиналами и во всем идти наперекор мнению света, но вскоре художник наскучил им, и они бросили его, как балованное дитя бросает игрушку. Тогда злосчастье привязалось к нему и уже не отпускало его, сведя преждевременно в могилу. Смерть избавила Тинто от мрачной конуры, где он жил на Суоллоу-стрит, преследуемый дома за долги хозяйкой и подстерегаемый на улице судебными приставами. «Морнинг пост» уделила его памяти четверть столбца, великодушно заявив, что в манере живописца угадывался немалый талант, хотя в картинах его не было законченности. Тут же сообщалось, что известный торговец гравюрами мистер Варниш, располагая несколькими рисунками и эскизами Ричарда Тинто, эсквайра, приглашает знатных господ и других джентльменов, желающих пополнить свои собрания современной живописи, незамедлительно ознакомиться с ними. Так кончил свою жизнь Дик Тинто: прискорбное доказательство той непреложной истины, что искусство не терпит посредственности и что тому, кто не может вскарабкаться на вершину лестницы, уж лучше не ставить ногу даже на первую ступеньку.
Мне дороги воспоминания о Тинто, особенно же о наших беседах, в которых мы чаще всего обращались к предметам моих настоящих занятий. Дик радовался моим успехам и предлагал выпустить роскошное иллюстрированное издание с заставками, виньетками и culs de lampe note 6, выполненными его рукой, движимой дружескими чувствами к автору и любовью к родному краю. Он даже уговорил одного старого калеку, сержанта, позировать ему для Босуэла, сержанта лейб-гвардии Карла II, и стал писать гэндерклюского звонаря для портрета Дэвида Динса. Однако, предлагая объединить наши усилия, Дик высказал мне множество замечаний, примешивая немалую дозу здравой критики к тем похвалам, которые мои сочинения нередко имели счастье снискать у читателя.