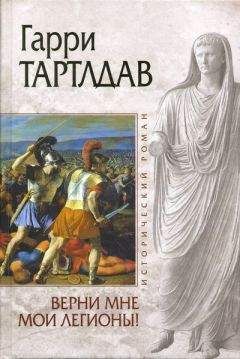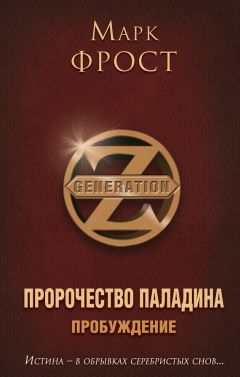В прошлое плавание «Афродиты» он доказал, насколько острое у него зрение. Менедем хотел, чтобы пара зорких глаз высматривала — нет ли пиратов.
Сразу к востоку от Кавна начинался гористый берег Линии, а Менедем и остальные родосцы считали, что пиратство является национальным промыслом ликийцев. Любой мыс здесь вполне мог служить укрытием для длинного, стройного пентеконтора или гемолии, которая, будучи короче пентеконтора, потому что ее весла располагались в два ряда, а не в один, отличалась еще и быстроходностью, — превосходное судно, особенно для морского разбоя. И эти корабли, вполне возможно, только и ожидали подходящего момента, чтобы ринуться из укрытия и захватить добычу.
Вовремя заметить пиратов было очень важно, ибо в противном случае ты вполне мог распрощаться со свободой и оказаться на помосте для рабов на каком-нибудь захудалом невольничьем рынке, куда тебя отправят голым и в оковах.
Менедем перевел взгляд с моря на берег Карий, виднеющийся впереди. Легкая дымка и большое расстояние — Кавн лежал примерно в двух с половиной сотнях стадий к северу и чуть к востоку от Родоса — мешали как следует рассмотреть берег, но Менедем мысленно дорисовывал то, что еще не мог разглядеть.
Как и горы Ликии, горы Карий круто поднимались над морем. Нижние части склонов в это время года были золотисто-зелеными от созревающих посевов, выше росли кипарисы, можжевельник и даже несколько драгоценных кедров. Дровосеки, поднимавшиеся в горы вслед за корабельными плотниками, которые добывали древесину для судов, вполне могли встретиться там не только с волками и медведями, но и со львами.
Стоило Менедему подумать о львах, как он, естественно, вспомнил своего любимого Гомера и пробормотал несколько строк из восемнадцатой песни «Илиады»:
Царь Ахиллес среди сонма их плач свой рыдательный начал;
Грозные руки на грудь положив бездыханного друга,
Часто и тяжко стенал он — подобно как лев густобрадый,
Ежели скимнов его из глубокого леса похитит
Ланей ловец; возвратяся он поздно, по детям тоскует;
Бродит из дебри в дебрь и следов похитителя ищет,
Жалобно стонущий; горесть и ярость его обымают…[1]
— С чего это тебе пришли в голову львы? — спросил Соклей.
Менедем объяснил.
— Ясно, — кивнул его двоюродный брат. — А вот интересно, есть ли хоть несколько строк в поэмах Гомера, которые ты не декламировал бы в качестве иллюстрации ко всему, что существует под солнцем?
— Не ко всему! Но если человек знает «Илиаду» и «Одиссею», то, вспомнив подходящие строки из этих поэм, он сможет догадаться, как все в мире гармонирует друг с другом, — заявил Менедем.
— Гораздо лучше узнавать все это самому, — возразил Соклей, — чем находить ответы в творениях старого слепого поэта.
— Но эллины поступали так с тех пор, как он пел свои поэмы, — ответил Менедем. — Назови мне любого из твоих драгоценных историков или философов, творения которого проживут так долго.
Он был куда консервативнее Соклея — хотя сам наверняка считал себя более практичным — и наслаждался, поддразнивая двоюродного брата.
— Зачем отправляться учиться в Афины, как поступил ты, когда большинство из того, что человеку нужно, находится прямо у нас перед носом?
Соклей сердито возразил:
— Во-первых, множество ответов Гомера не так хороши, как привыкли думать люди. А во-вторых, кто сказал, что творения Геродота, Платона и Фукидида не проживут долго? Фукидид написал свою «Историю», чтобы она стала достоянием всех времен, и, я думаю, он своего добился.
— Да ну? — Менедем ткнул себя большим пальцем в грудь. — Даже я не знаю, что он там понаписал, а я не так уж необразован. С другой стороны, возьми любого эллина из Массаллии, что на берегу Внутреннего моря, и перенеси его в один из полисов, которые Александр основал в Индии или в какой-нибудь другой стране за пределами Персии, — и когда этот эллин продекламирует строки Гомера, как только что сделал я, обязательно найдется кто-нибудь, кто их продолжит. Ну, давай скажи, что я ошибаюсь.
Он ждал. Хотя Соклей иногда и раздражал его, но всегда был болезненно честен. Вот и сейчас двоюродный брат Менедема в конце концов со вздохом признал:
— Что ж, я не могу сказать, что ты ошибаешься, ты и сам это отлично понимаешь. Гомера знают повсюду, и всем известно, что его знают повсюду. Когда человек лишь только учится читать, если он вообще этому учится, что он первым делом изучает? «Илиаду», конечно. И даже те, кто не умеет читать, знают истории, которые пел поэт.
— Спасибо. — Менедем изобразил поклон, не выпуская рулевых весел. — Ты только что сам привел доказательства в мою пользу.
— Нет, клянусь египетской собакой, — покачал головой Соклей. — Истина и то, что люди считают истинным, — не всегда одно и то же. Если бы мы думали, что наше судно плывет на юг, разве мы оказались бы в Александрии? Или все-таки продолжали бы приближаться к Кавну, несмотря на то что убеждены совсем в ином?
Настала очередь Менедема вздрогнуть. Спустя мгновение он указал вправо.
— Вон рыбак, который придерживается о нас ошибочного мнения. Мы на галере, поэтому он думает, что мы пираты, и гребет прочь изо всех сил.
Соклей помахал пальцем перед носом собеседника.
— О нет, почтеннейший, не выйдет! Ты не уклонишься таким образом от продолжения дискуссии.
Соклей был (и порой это раздражало) не только честным, но и упрямым.
— Люди могут верить во что-то, потому что это правда, но вещи не становятся правдой оттого, что люди в них верят.
Менедем поразмыслил над его словами. Дельфин выпрыгнул из воды рядом с «Афродитой», потом снова плюхнулся в море. Он был красив, но разве мог Менедем указать на него и заявить, что это бесспорная истина? Наконец он проговорил:
— Неудивительно, что Сократа заставили выпить цикуту. Это, по крайней мере, придало дискуссии иное направление.
* * *
Поскольку ветер дул прямо в лоб, команде «Афродиты» пришлось грести весь путь до Кавна. Акатос достиг города уже под вечер, и, когда судно приблизилось к пристани, проскользнув мимо молов, которые прикрывали вход в гавань, Соклей рассеянно сказал:
— Сегодня, наверное, уже слишком поздно — «мы не вернемся к делам».[2]
Стоило ему обронить эти слова, как он понял, что процитировал «Одиссею», и разозлился на самого себя. «Вот еще одна фраза из Гомера», — подумал Соклей с досадой.
С тех пор как они повздорили из-за Сократа, Соклей, насколько позволяла теснота на торговой галере, держался подальше от Менедема. У них уже и раньше случались такие споры; Соклей подозревал — нет, был уверен, — что двоюродный брат завел дискуссию на эту тему только для того, чтобы его взбесить. Беда была в том, что Менедему это удалось.
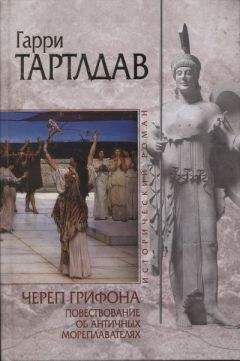
![Анчи Мин - Дикий Имбирь[Отверженная]](https://cdn.my-library.info/books/18309/18309.jpg)