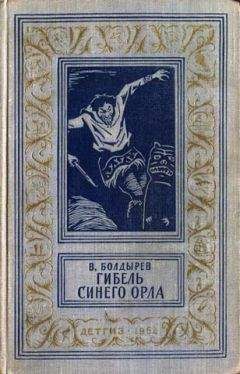— Гамбри знал, на что идёт, знал, что борьба без жертв не обходится… Вот что я тебе скажу, друг, и ты это запомни: если когда-нибудь наша возьмёт и мы провозгласим равенство людей, я не могу посулить тебе мира и тишины. Мы обезоружим тем или иным способом тех, кто будет сопротивляться, и, уверяю тебя, церемониться не будем! Обещаю тебе одно: мы уничтожим унизительную процедуру позорного столба и клеймения палачом!..
В эти дни король получил от одного из своих «верноподданных» записку. В ней стояло: «… смею доложить вам, ваше величество, что гнев народный дошёл до предела, со всех сторон слышны жалобы, и эти жалобы превратятся в народную ярость, если вы, ваше величество, не внесёте успокоения в умы, понизив цены на хлеб, потому что, поверьте, ваше величество, всеми нашими несчастьями мы обязаны этому вздорожанию».
А ещё через несколько дней в казарму на улице Муфтар пришла молодая женщина.
— Пропусти меня, братец! — попросила она часового.
Часовой оглядел женщину с головы до ног. Молодая, одета, как простолюдинка, в ситцевом платье, на голове белый чепец. Открытый взгляд карих глаз устремлён прямо на него.
— Чего ты уставился? Я без оружия. А мне надо к солдатам, хочу с ними поговорить. Неужто ты меня испугался?
— Чего мне пугаться? — нерешительно сказал часовой.
— Тогда пропусти! — женщина рассмеялась. — Я белошвейка с улицы Святых Отцов. Зовут меня Жермини́ Леблюэ́. Так что, видишь, я ни от кого не таюсь. Да мне и скрывать нечего.
Часовой пожал плечами.
— Ну иди!
И она вошла в казарму. Солдаты были заняты кто чем: один чистил амуницию, другой пришивал пуговицу, третий шомполом прочищал ружьё…
— Меня зовут Жермини Леблюэ, — обратилась женщина к солдатам. — А пришла я сюда, чтобы вас устыдить. Как могли вы стрелять в своих же братьев — парижских рабочих?! Пули ваши летели, и вы сами не знаете куда, в кого они попали. А меж тем вы убили старика Бланшара. Слыхали про такого? Ему семьдесят лет, он давно уже не работает и вылез из дома, чтобы купить хлеба на последние гроши… Хлеб достаётся дорого, а ему, бедняге, он и вовсе дорого обошёлся. Скосила его ваша пуля. Другая пуля прервала жизнь Жорже́ты Гаду́. Ей нынче исполнилось бы шестнадцать лет, если бы не приказ одного из ваших офицеров…
Солдаты слушали, не прерывая, безмолвно переглядывались, словно спрашивали друг у друга, как поступить. А женщина, воспользовавшись этим, приступила к главкому:
— На вас теперь кровь, и так легко её вам не смыть! Разве вы не такие же граждане Парижа, как те, кого вы убили? Как те, которых вчера осудили и повесили? Сегодня вы под ружьём! Завтра станете кто красильщиком, кто жестяником, кто чернорабочим. А те, в кого вы стреляли, тоже встанут под ружьё, если у нас будет война с иноземцами. А чего добивались рабочие Ревельона?.. Только того, чтобы жить не по-собачьи, а по-людски…
— А кто тебя прислал к нам? — спросил молодой солдат, протискиваясь ближе к Жермини.
— Меня? — изумлённо спросила женщина. — Никто! Пришла я потому, что сердце мне подсказало. Прямо как к горлу подступило. Надо, думаю, пойти и всё им объяснить…
— Что это ещё за бунтовщица?! — гневно окликнул женщину офицер, которому доложили о её появлении в казарме.
— Это я-то бунтовщица? — искренне удивилась Жермини. — Бунтовщики — это те, кто с оружием. А у меня какое оружие? Язык — вот моё оружие!
— Вот то-то, что язык у тебя слишком длинный! Посидишь немного в тюрьме, он и укоротится! — пригрозил офицер.
— Я тюрьмы не боюсь. Со мной правда… Она всегда в конце концов верх возьмёт…
— Пико́, Жане́н, отведите её в Сальпетрие́р! Посидит в тюрьме — одумается, поймёт, что такое бунт! — приказал офицер.
Два солдата отделились от других. Пико, человек уже немолодой, неохотно дотронулся до плеча Жермини.
— Идём! — пробурчал он.
— Идём! — согласилась Жермини. Она сделала два шага к двери, потом повернулась к солдатам и сказала: — Запомните всё же мои слова. Может, сейчас я пришла слишком поздно, так пригодится в другой раз. — Она помахала рукой в знак прощального приветствия и последовала за конвойными.
А позади неё слышался недовольный ропот:
— За что же это её в тюрьму?!
— Выходит, и слова молвить нельзя…
— Она же и в самом деле от сердца…
Жак шёл, как всегда, со связкой книг под мышкой и даже не сразу заметил, что очутился на улице Муфтар. Его неодолимо влекло на эту улицу, где жила Эжени. Уже не первый раз он сюда сворачивал, хотя мог бы пройти домой более близким путём.
Он не разглядывал прохожих, не глазел по сторонам, только, проходя мимо дома номер девять, внимательно смотрел на окошко, в котором могла показаться Эжени. Он и видел её: она сидела за шитьём, не поднимая головы от стола. Подле неё на ворохе цветных лент сидела сорока. Но в окно Эжени не глядела. У подъезда не видно было и тётушки Мадлен.
— Молодой человек! — вдруг окликнул Жака женский голос, и Жак не сразу понял, что обращаются к нему.
Он поднял глаза и увидел обычную в те дни сценку: двое солдат ведут арестованного. Необычным было лишь то, что вели они молодую женщину. Она шла лёгкой походкой, как будто целью её была прогулка.
— Будет тебе горланить! — беззлобно сказал солдат постарше. — Иди тихонько, и всё обойдётся хорошо.
— Молодой человек, — повторила женщина, не обращая внимания на слова конвойного, — мой брат, цирюльник Жером, живёт у самой стены Бастилии. Передай ему, что его сестру Жермини арестовали и ведут в Сальпетриер.
— Я знаю Жерома, знаю! — закричал Жак. — Но за что это вас? — Следуя за Жермини, Жак пошёл в ногу с солдатами.
— За то, что я хотела спросить солдат, кто утрёт слёзы оставшимся вдовам и сиротам.
— Перестанешь ты болтать?! — рассердился второй солдат. — И откуда только ты такие слова берёшь? Они и камень разжалобят!
— Хорошо, кабы мои слова проняли тех, у кого сердца каменные!
Тут солдат постарше потерял терпение и накинулся на Жака:
— А ты чего за нами увязался? Уходи подобру-поздорову, пока за тебя не взялись!.. Свернём-ка направо, в переулок, — бросил он своему товарищу.
Жермини улыбнулась Жаку.
— Если выполнишь мою просьбу, спасибо! А если не сделаешь, бог тебе судья!
И женщина, сопровождаемая двумя конвойными, скрылась в переулке. Жак долго смотрел ей вслед.
Глава семнадцатая
Урок королям
Теперь, когда Генеральные штаты должны были вот-вот начать свою деятельность, значение Горана, избранного депутатом от третьего сословия, ещё больше возросло в глазах семьи Пежо.