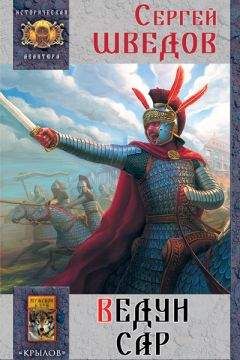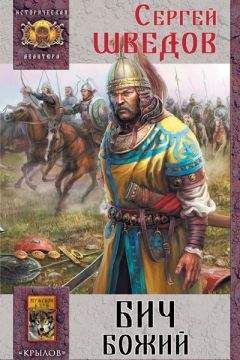— Отец дружен с Умилом уже более десяти лет, — пояснил Сар. — Зачем же обижать старого знакомого.
Похоже, Стилихон недооценил скромного венедского торговца. Руфина и Умила связывали не только коммерческие дела. Трибун еще не забыл о событиях десятилетней давности, разворачивавшихся на его глазах. Именно здесь, в Сабарии, сказал последнее прости этому миру божественный Валентиниан. И его смерть, как догадывался Стилихон, не была естественной. А ведь императора охраняли сотни людей. Не говоря уже о легионерах, наводнивших в тот год Панонию. И все-таки Валентиниан умер, к большому удовольствию комита Меровлада и патрикия Руфина.
— Рад видеть сына моего старого друга живым и здоровым, — спокойно произнес патрикий, похлопывая Стилихона по плечу.
— К сожалению, сиятельный Руфин, я не могу ответить тебе тем же, — хрипло произнес трибун, слегка пугаясь собственной смелости. — Корректор Пордака — твой человек, а именно он, по слухам, повинен в смерти моего отца.
— Тебя ввели в заблуждение, Стилихон, — покачал головой патрикий. — Пордака оказал мне несколько услуг, но никогда не ходил под моей рукою. Твой отец это отлично знал и вряд ли доверился бы этому негодяю. Но мне понравилась твоя откровенность, сын Меровлада. Благородство в этом мире встречается куда реже, чем хотелось бы.
— Сейчас Пордака стал комитом финансов в свите божественного Валентиниана.
— А кто стал префектом претория вместо твоего отца?
— Сиятельный Андрогаст.
— Ну, вот тебе и ответ на незаданный вопрос, Стилихон. Ищи, кому выгодно.
— А разве тебе не выгодна смерть моего отца, патрикий Руфин? — прямо спросил трибун.
— Нет, Стилихон. Твой отец хотел, чтобы врастание варваров в имперскую элиту происходило мирным путем. И в этом его поддерживали многие рексы и жрецы. Я не очень верил в успех этого начинания, но был бы рад, если бы Меровладу это удалось.
— А разве Феодосий, приглашая на службу готских вождей, преследовал не ту же самую цель?
— Ответ на твой вопрос, Стилихон, уже дал рекс Гайана, — горько усмехнулся Руфин.
У патрикия Руфина на Стилихона были свои виды, и он не стал скрывать своих мыслей от молодого трибуна. Патрикий хотел, чтобы Стилихон, устранив Андрогаста, занял бы место своего отца при божественном Валентиниане.
— Для меня не является секретом, чей он сын, — откровенно признался трибуну Руфин. — Валентиниан, направляемый родственной, но твердой рукой, вполне может стать строителем нового Рима, вокруг которого объединятся многие племена, но уже на других, равноправных началах.
— И знатью нового Рима станут русы Кия? — с усмешкой спросил трибун.
— А почему нет, Стилихон, — пожал плечами Руфин. — Разве не этруски создали цивилизацию, которую потом унаследовали латины и италики? Разве римские патрицианские роды не потомки троянцев Энея? А Трою основали венеды, точнее, их далекие предки. И разве в Венетии и Русции, самых процветающих римских провинциях, не живут потомки родственных венедам племен? Странно, что мне, римлянину, приходится объяснять все это ругу, принадлежащему к одному из самых славных родов.
— Моя мать была римлянкой, — хмуро бросил Стилихон. — Я родился в Медиолане и на латыни говорю лучше, чем на языке моих предков. Я ничего не знаю об этрусках, Руфин. Я ничего не слышал ни о Трое, ни об Энее. Зато я был крещен еще в детстве и не понимаю, почему я должен отказываться от веры, приверженцами которой были моя мать и мой отец. По-моему, ты ошибся в выборе помощника, патрикий Руфин. Я не тот человек, который тебе нужен.
— Я не требую от тебя немедленного ответа, Стилихон. Ты еще слишком молод, чтобы взваливать на себя столь тяжелую ношу. У тебя достаточно времени, чтобы сделать осознанный выбор. Я введу тебя в круг Кия. Но окончательное решение останется за тобой. И если ты скажешь «нет», я не стану с тебя взыскивать за это.
Квестор Саллюстий расценил новое поручение божественного Феодосия как опалу. Сам Саллюстий не чувствовал за собой никакой вины и был абсолютно уверен, что стал жертвой происков своих многочисленных врагов. Интриги в Константинополе велись постоянно, как с ближним, так и с дальним прицелом. Саллюстий и сам активно участвовал в нескольких замысловатых комбинациях, нацеленных на подрыв влияния нового любимца императора, магистра финансов Евтропия. Евтропий был евнухом, и, возможно, именно в силу этой причины никто не принял его поначалу всерьез. В том числе и Саллюстий. Квестор далеко не сразу сообразил, что влиять на императора Феодосия можно и с женской половины дворца. Но если евнух Евтропий без проблем проникал в личные покои императрицы, то Саллюстию, несмотря на все его благочестие, ход туда был закрыт. Вот и думай тут, что является для чиновника достоинством, а что недостатком. Саллюстий никогда не был большим охотником до женского пола, а потому и воздержание, к которому призывал свою паству епископ Нектарий, не представляло для него больших трудностей. Тем не менее он был мужчиной, и это обстоятельство в нынешней непростой ситуации здорово его подвело.
С жалобами на жизнь он отправился к своему союзнику, магистру Лупициану. Магистр, несмотря на почтенный возраст, интереса к противоположному полу еще не потерял. По Константинополю ходили упорные слухи, что магистр пехоты, победитель в битве при Соме, неравнодушен к супруге комита Перразия, почтенной Целестине. Сам Лупициан утверждал, что его связывают с Целестиной исключительно деловые отношения. Что, в общем-то, могло быть правдой. Нельзя сказать, что Целестина уж очень изменилась за последние годы, но сорокалетний рубеж она перевалила давненько, и ее интересы из сферы любовной все более сдвигались в сферу коммерческую. Целестина отправилась было с мужем, комитом Перразием, в Медиолан, но через три года вернулась в Константинополь. Слухи о причинах ее поспешного перемещения с запада на восток ходили разные, но поскольку никакой полезной информации они с собой не несли, то Саллюстий пропустил их мимо ушей. И, возможно, сделал это напрасно. Убранство дворца Целестины ясно показывало, что его хозяйка процветает. Такого количества позолоты, картин и мраморных статуй Саллюстий не видел даже у магистра Лупициана, слывшего едва ли не самым богатым человеком в Константинополе.
Лупициан, облаченный по случаю жары в легкую тунику золотистого цвета, полулежал в кресле у фонтана, расположенного в самом центре огромного зала, предназначенного хозяйкой для приема гостей. Сама Целестина стояла у бортика и кормила рыб, запущенных в искусственный водоем исключительно для забавы. Возбужденный вид обычно спокойного и выдержанного квестора удивил Лупициана, и его левая бровь поползла вверх.