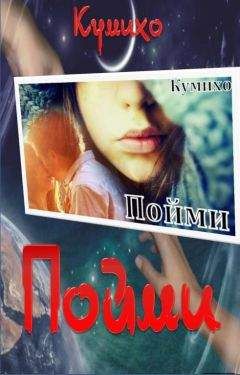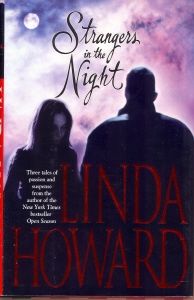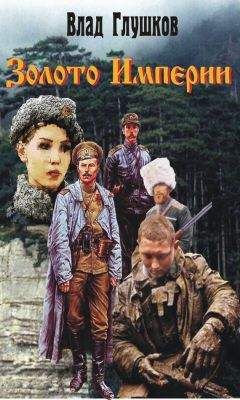Тичерть они так и не догнали. Один из пермяков, придя вечером к князю, долго мялся, виновато глядя в угол. Князь, укрывшись шкурой с головой, лежал на топчане спиной к гостю.
— Не серчай, кнес, — сказал пришедший. — Голая — она бы далеко от нас не ушла, мы бы ее быстро догнали, бежали по следам… Да следы-то ее в парме из человечьих стали… стали рысьи. Не поймать нам ее. Не человек она. Ламия.
Калина замерзал. Бездумно плутая, он ушел от Чердыни далеко в парму, напетлял лыжню и на закате, решив идти домой напрямик, зацепил корень и сломал лыжу. Плюнув на свой след, он попер через сугробы и лощины и увяз в снегах, сбившись с пути. Ночь накатила яркая, звездная, но за еловыми шатрами трудно было разглядеть созвездия. Калина взял на Перо Тайменя, как называли эту звезду пермяки. Если не к Чердыни, то уж к Колве он точно должен был выйти. Но он все брел и брел, проваливаясь по пояс, минуя пустые елани, карабкаясь по буреломам, сползая в овражки и взбираясь на вереи, а ни города, ни реки все не было. Он продрог, обессилел и наконец свалился под сосной на опушке большой поляны. Он смог только прислониться спиной к стволу и обхватить руками колени. Глаза закрывались сами собой. Сладкая, теплая полудрема-полусмерть заволакивала человека, потерявшегося в зимнем лесу. Калина знал, что погибнет, если не заставит себя ползти дальше, но заставить не мог.
Зачем его вообще понесло в тайгу? Месяц назад в избушку, где Калина имел угол, нагнувшись, вошел старец Дионисий. «Владыка велел передать тебе, храмодел, каким желает видеть собор, — сказал Дионисий, не присаживаясь. — Чтоб был со звонницей и о пяти главах в честь пятого епископа Пермского. А обликом чтоб выражал мысль о попрании Каменных гор княжьей дружиной. И еще владыка велел, чтоб к Рождеству ты образ этот обдумал и представил ему игрушкой или изографией».
После побега княгини Иона, видно, порядком стал побаиваться князя. Михаил не желал видеть епископа. Дверь в его половину хором заколотили и прорубили новую с другой стороны, чтобы князю с епископом даже не встречаться. Не случайно Иона вспомнил о князе, когда размышлял, каким быть собору.
Калина крепко взялся за этот храм. Он уже лет десять не брался по-настоящему за свое прежнее ремесло — со времени строительства Троицкой церкви в Соликамске. В заказе епископа, в своем возвращении к делу, в значении, которое будет иметь собор для всей пармы, Калина увидел огромный смысл, а может, и перст судьбы. К такой задаче не годилось подходить спустя рукава, по вековой дедовской мерке: трапезная-молельная-алтарь, палатка-бочка-луковка. Немало души растратил Калина на эти леса, реки и скалы, чтобы ставить храм без тайного слова, запечатленного в упругих рядах венцов и серебряном лемехе маковок. Калина и сам точно не знал, чего же ему так хочется сказать, выразить, выплеснуть из себя, а потому и мучился, метался, просыпался ночами, царапал ножом доски стола, рисуя собор. Чтобы охолонуть, подумать наедине с собой, вытряхнуть из головы накопившийся сор неудачных замыслов, он и пошел в лес. Пробегусь, мол, по стуже, а там и разум прояснится. И вот теперь Калина замерзал.
Уже не было ни страха, ни усталости, ни горечи — только бредовая, сладкая, предсмертная истома. С трудом приподняв веки, Калина мутно глянул из-под бровей, задетый каким-то звуком — то ли треском лопнувшего ствола, то ли хрустом снега. Поляна ослепительно-бледно пылала под луною в зубчатой раме ельника. Посреди поляны Калина увидел нагую девушку, стоящую по пояс в снегу. Волосы ее были по-вогульски подняты на макушку и стянуты в хвост. Девушка тихо смеялась и протягивала руку, подзывая, как пса, матерого, седеющего волка, что прятался в четырех одинаковых маленьких елочках, едва торчавших над снежным озером.
«Ламия…» — затлел последний уголек памяти.
Холодный ветер, как сквозняк в теплой мгле, лизнул скулу Калины. Калина вновь приоткрыл глаза. Перед ним на корточках сидела Тичерть и гладила его по лицу.
— Поклон тебе, Калина, от Асыки, князя вогулов, — улыбаясь, прошептала она, сияя нелюдским, полуночным взглядом.
Калина молчал. Губы смерзлись.
— Умираешь, Калина? — спросила ламия. — Замерзаешь? Замерза-аешь… Враг мой замерзает, самый заклятый враг… Страшней князя, страшней сотника, страшней епископа… Может, чего узнать хочешь? Спроси, я все скажу.
Калина чуть приподнял голову. Скрипнул ломающийся ворот зипуна, затрещала обледеневшая борода, отрываясь от груди.
— Где Чердынь? — без звука спросил Калина.
Ламия удивленно и пытливо заглянула ему в глаза.
— Живуч ты, Калина, — улыбнулась она. — А ведь, коли скажу, вдруг спасешься, а? — Она пальцем провела по обмороженной скуле Калины. — Правильно ты шел на Перо Тайменя. Только не дошел немного.
Они опять молча глядели друг на друга. Усы Калины хрустнули.
— Почто спасаешь, ламия? — медленно спросил он.
Тичерть, точно любуясь, снова нежно провела ладонью по его лицу.
— А баба я, — ответила она. — Жалко мне вас…
Она вскочила, свистнула и помчалась босиком по снежной поляне к дальнему лесу — живая, голая, отбрасывающая черную тень на слепящий снег. Из елочек вывалился волчище и тяжело поскакал рядом, по брюхо проваливаясь в сугробы.
Калина ничком ткнулся вперед, полежал и пополз к синей звезде над лесом. Он уже ничего не думал, не вымерял, не ждал — просто полз, полз, полз по лучу, как по струне. И то ли парма расступилась — расползались буреломы, отодвигались стволы, — а то ли вправду синий луч с небосвода, рассыпавшегося льдинками, был путеводным, но вскоре лес поредел, как рубаха на локтях, и вдали перед бледной полосой застывшей Колвы поднялись черные зубчатые гребни городища и острога. Чердынь пермским подземным ящером вылезла под луну, чуть посвечивая красными глазами лучин в маленьких окошках.
Калина не помнил, кто его подобрал, кто притащил в тепло, кто раздел, растер, закутал. До первых ростепелей он метался в горячке на топчане, укрытый блохастыми медвежьими шкурами. В дыму ему чудились бревенчатые стены, скаты кровель, тугие излучины закомар, надутые купола под крестами, а то нагая девушка среди снегов, живые округлости ее лица, плеч, грудей, бедер — а вокруг мертвая, ледяная неподвижность крещенской стужи. Все это смешивалось, переплеталось, таяло и появлялось вновь; то женское тело, как чешуей, вдруг обрастало лемехом, то бревенчатые венцы вдруг расплывались горячей плотью. Калина звал Айчейль, князя Асыку, вогулку Солэ, что подобрала его, истекающего кровью, на Балбанкаре, а то вдруг мертвецов — Ухвата, Питирима, князя Ермолая. Только к весне он выплыл из лихорадки, будто из трясины, и начал узнавать тех, кто появлялся рядом, — Полюда, Михаила, Бурмота, княжеских ратников, косоротую стряпуху.