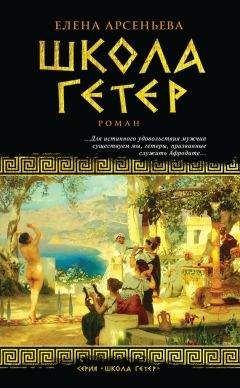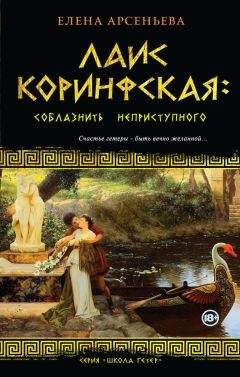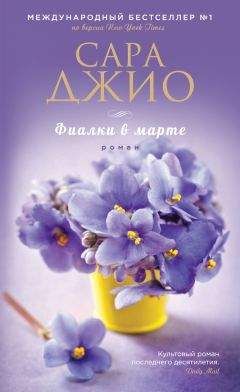— А разве что-то есть дальше? — удивилась Гелиодора. — Наш жрец произносил только эти слова!
…И озаряй своим блеском Каллистион. Тайны влюбленных
Видеть, богиня, тебе не возбраняет никто.
Знаю, счастливыми нас назовешь ты обоих, Селена, —
Ведь и в тебе зажигал юный Эндимион страсть! —
продекламировала Никарета с лукавой улыбкой, и девушки бурно захлопали в ладоши.
— Ну, теперь твой черед, — указала Никарета на Мауру, однако та сконфуженно покачала головой в знак того, что не помнит ни строки. Так же покачали головами Аглея, красота, Клития, знаменитость, Филлис, листочек, Дианта, цветок бога, Хития, высокая, Элисса, странница…
— Ну, а ты? — с надеждой спросила Никарета у девушки с пепельными волосами. Конечно, рядом с теми людьми, которые отправили ее в Коринф, она многому могла научиться! — Ты можешь прочесть какие-нибудь стихи?
Она подняла свои удивительные серые глаза, напоминающие грозовое небо, и заговорила:
Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью и сердцем:
Настанет некогда день, и погибнет священная Троя,
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама.
Но не столько меня сокрушает грядущее горе Трои,
Приама родителя, матери дряхлой, Гекубы,
Горе, тех братьев возлюбленных, юношей многих и храбрых,
Кои полягут во прах под руками врагов разъяренных,
Сколько твое, о супруга! Тебя меднолатный ахеец,
Слезы лиющую, в плен повлечет и похитит свободу!
И, невольница, в Аргосе будешь ты ткать чужеземке,
Воду носить от ключей Мессеиса иль Гиперея,
С ропотом горьким в душе; но заставит жестокая нужда!
Льющую слезы тебя кто-нибудь там увидит и скажет:
Гектора это жена, превышавшего храбростью в битвах
Всех конеборцев троян, как сражалися вкруг Илиона!
Скажет — и в сердце твоем возбудит он новую горечь:
Вспомнишь ты мужа, который тебя защитил бы от рабства!
Но да погибну и буду засыпан я перстью земною
Прежде, чем плен твой увижу и жалобный вопль твой услышу… [30]
Последние слова оборвались рыданием, и спустя мгновение остальные девушки, которые слушали ее, затаив дыхание, вдруг все… разрыдались!
Обнявшись, как сестры, эти девицы из Аргоса и Аркадии, с Родоса и Крита, из Афин и Смирны, Эпидавра и Фессалии, Пергама и Триполиса проливали слезы над своим прошлым, которое было, очень может быть, тяжелым, и безрадостным, и страшным, но уже не пугало, ибо оно миновало, а будущее оставалось закрытым, и только вещим пряхам было известно, что они там наткали и напряли Мауре, Нофаро, Гелиодоре, Аглее, Филлис, Дианте и всем прочим…
Никарета, которая, как и всякая женщина, и сама пролила в свое время реки слез, а потому ненавидела и слезы, и плачущих, несколько раз воскликнула:
— Перестаньте! Прекратите, глупые девчонки! — однако все было бесполезно.
Никарете сначала очень хотелось позвать Херею и приказать ему высечь эту глупую девицу, которая всех ввергла в такую печаль, но монолог Гектора из «Илиады» поразил ее, любительницу возвышенной поэзии Гомера, в самое сердце, поэтому она решила потерпеть, пока девчонки наревутся. И вдруг с изумлением обнаружила, что сероглазая, положившая начало этому потопу, уже не плачет и всматривается куда-то за колонны, где по каменным степеням длинной цепочкой тянулись рабы, которые принесли в огромных скафосах — глиняных сосудах — воду для нужд храма.
Никарета проследила, на кого направлены темно-серые, еще влажные глаза, и очень удивилась. Среди рабов попадались всякие, молодые и старые, и она сама порою поглядывала на молодых, мускулистых, полунагих красавцев, а то и приказывала надсмотрщику задержать для нее на несколько часов одного или даже двух водоносов. Однако эта девушка во все глаза смотрела отнюдь не на юного красавчика, а на какого-то лысого, невзрачного толстяка, который еле-еле передвигал ноги, сгибаясь под тяжестью кувшина.
— На кого это ты так уставилась? — не выдержала Никарета, и девушка вздрогнула:
— Прости, великая жрица. Мне показалось, конечно, показалось… Прости!
— Ну что ж, показалось так показалось, — покладисто кивнула Никарета. — Всякое бывает. Но если ты опять зальешь своими и чужими слезами половину храма, я тебя не пощажу, поняла?
— Залью слезами половину храма? — изумилась сероглазая — и наконец-то увидела кучку рыдающих девиц. Мгновение она таращилась на них, а потом вдруг тихонько хихикнула раз, другой — да так и залилась хохотом.
Девушки отстранились друг от дружки, смущенно переглядываясь и утирая слезы, а потом тоже принялись смущенно смеяться.
Кажется, всем им после слез полегчало, и Никарета благосклонно взглянула в серые глаза:
— Кто научил тебя этим стихам?
— Мой отец. Его звали Леодор.
Девушка произнесла эти слова с таким тяжким вздохом, что Никарета решила: сейчас вновь прольются слезы, — но нет, ничего подобного!
Никарета одобрительно кивнула — и только тут вспомнила, что до сих пор не знает, как называть эту девушку. Наверняка она была слишком занята рыданьями и ничего для себя не придумала.
— Как тебя зовут? — спросила она снисходительно. — Хочешь назваться Юмелией? Это значит — мелодия. Или, быть может, тебе по нраву имя Целландайн, то есть ласточка?
Девушка слабо улыбнулась:
— Великая жрица, поверь, я бы с удовольствием последовала твоему совету и назвалась Целландайн, тем паче что мою мать звали Фтеро, воробушек, а тетушку, которая вырастила меня, — Филомела, соловей. Однако у меня есть имя, которым нарек меня отец, и, прошу, не принуждай меня изменить его выбору.
— Ну? — настороженно спросила Никарета, недоумевая, какое же имя мог выбрать для нее отец — любитель Гомера. Неужели Андромаха?! [31]Такое имя для гетеры совершенно не годится! — Как же тебя зовут?
— Лаис, — ответила сероглазая, вызывающе вскинув голову. — Один сарацин сказал, что это значит — львица.
— Хм-хм, — протянула удивленная Никарета. — Ну что же, пусть будет так. Об одном прошу тебя: не читай своим любовникам этот монолог Гектора! А то они вымочат слезами твою постель! Ну а теперь, девушки, все в купальню, а заодно на первые матиомы: по уходу за волосами и телом.
… На какой-то миг Лаис показалось, что она видит Фания. Да-да, того самого Фания, который когда-то спас от насилия Орестеса (чтобы потом убить его!) и Доркион — чтобы продать ее в рабство. Но из-за этого она попала к Апеллесу и пережила самые светлые и самые темные, самые лучшие и самые тяжелые мгновения своей жизни… Да, сердце ее чуть не разорвалось, когда пришла пора уезжать от человека, которого она так любила и которого чуть не предала, да, Апеллес теперь принадлежал другой, и Лаис не знала, когда выплачет свое горе, но она была не глупа и прекрасно понимала: если бы не Фаний, в ее жизни могло не быть ничего, вообще ничего — кроме грязи, боли, насилия и унизительной смерти посреди моря, а потом ее, так же как отца, швырнули бы за борт на корм рыбам. Фаний был орудием ее судьбы, а на судьбу гневаться глупо. Что ж, она потеряла Апеллеса, но зато попала туда, куда вела ее стезя. И Лаис очень хотела бы увидеть Фания вновь, чтобы поблагодарить его, но в Афинах ей было не до того, да он и запретил ей даже приближаться к его дому…