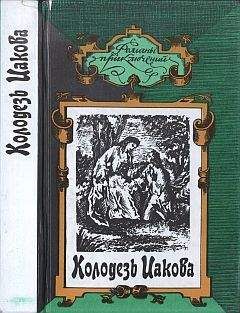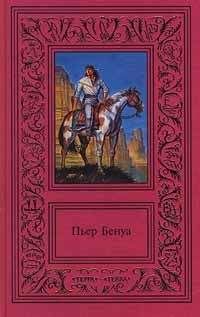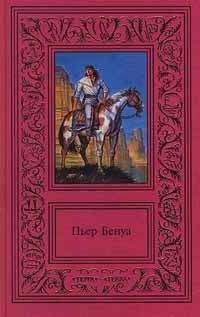– Да, мы говорили о нем, – вставил де Биевр, – и я не изменю ни слова из того, что хотел сказать. Я отлично сознаю все глупости, которыми сопровождается таинственный вопрос о еврейской душе. Кажется, один только английский поэт ясно видел, в чем решение этой проблемы. Вы признаете, что Шейлок – странная личность. Вся бессмыслица в том, что видят в нем только ростовщика, тогда как четверику золота он предпочитал фунт мяса, вырезанного из груди его врага. В этом вся суть. Спросите у Гарнагона и отца Грандэ, что бы они выбрали. Они настоящие скупцы. В Шейлоке же сильнее всего чувство мести, то есть он попросту идеалист. Золото – лишь орудие в его руках. У еврейского народа оно всегда было только орудием, единственным, которым ему разрешили защищаться. Я восторгаюсь безрассудством тех, кто обвиняет вас в том, что вы две тысячи лет поклоняетесь золоту.
Это то же самое, что упрекать Сен-Сиринца, отданного сначала в военную школу, а затем в военную академию, в том, что он сделал военную карьеру и стал генералом. Он пошел по той дороге, которую ему определили. По этой причине и евреи в течение веков были первыми в денежном мире. Но или я глубоко ошибаюсь, или они видели в них только средство отомстить беззаконию, жертвами которого они являлись. Мою точку зрения подтверждает то обстоятельство, что только после разрушения храма и изгнания евреев их стали считать более корыстолюбивыми, чем другие народы. Из борьбы они вышли победителями. Правда, часто они победу превращали в месть. Но месть никогда не была низким чувством. Она – дочь памяти и сестра ее – благодарность. Вопрос, к которому я хочу подойти, следующий: сегодня, повторяю, вы победили. Морально храм восстановлен. Нужно ли восстановить его материально? Всегда ли вы останетесь в вашем уединении? Навсегда ли сохраните в глазах своих темное пламя, отражающее костры Испании и пожар Сиона? Отдадите ли вы больную, бесплодную гордость, ваше taldium vital, за ясность души ваших предков в садах Ханаана? Неужели так сильно в вас вечное стремление к страданию, что, покорив своих палачей, вы становитесь собственными палачами?
Поль Эльзеар нагнулся и взволнованно пожал руку де Биевра.
– Тем, кто так говорил бы с нами, мы бы все отдали, – прошептал он. – Мы жаждем любви больше, чем другие народы.
Жестом старик остановил это неуместное умиление.
– И все это из-за очаровательной Жессики. Лучше всего было бы, если бы она была от Лепарра или Кимперлея.
– Ну, тут вам беспокоиться нечего, – рассмеялся журналист, на этот раз от всего сердца.
Под окнами послышался шум подъезжавших автомобилей и стук открываемых дверей.
– Враг идет, – сказал Эльзеар. – Какой они поднимают шум!
– Похоже на деревенскую свадьбу, – заметил де Биевр, когда распахнулась дверь перед штурмовавшей зал толпой.
В мгновение ока оба потерялись в наступившей суматохе.
Де Биевр всеми силами расчищал себе дорогу к герою празднества, вокруг которого уже образовался круг кропящих «святую воду».
– Превосходно, мой дорогой дю Ганж… После ста представлений та же свежесть, тот же интерес, что и на генеральной репетиции. Ривароль и Мариво на арию Оффенбаха.
– Мой дорогой граф, – пролепетал дю Ганж, – вы, право, слишком добры…
– Отнюдь нет. Я говорю только то, что думаю.
Поль Эльзеар подскочил к де Биевру.
– Ваша фраза чудесна. Как это вы сказали? Ривароль и… у меня сильное желание вставить ее в мою статью, конечно, назвав имя автора.
– Ты способен на это, несчастный! – рассмеялся де Биевр. – Во всяком случае, вы можете написать, что мне редко удавалось видеть такую гармонию. Все отлично удалось. Ох! Дорогой мой, на том свете придется снова все это увидеть, но в ожидании полюбуйтесь на эффект, произведенный при ярком свете нашей Жессикой.
– Не думаете ли вы, что я не заметил, как все на нее облизываются? – сказал журналист.
В углу действительно стояла Агарь, окруженная полудюжиной борющихся за первенство мужчин. Может быть, они не старались бы так, если бы знали, что год назад на площади Александрии можно было за несколько лир купить расположение мадемуазель Жессики.
На Агари было черное бархатное платье, перехваченное поясом из серебряных лавровых листьев: вырез на спине, дивный изгиб бедер, волнующие сладострастные возвышения, образующиеся при движении лопаток. Немного отставив левый локоть, точно обороняясь, она с рассеянной улыбкой принимала рассыпаемые толпой поклонников комплименты.
– Ну, – пылко вмешалась Королева Апреля, – кончите вы, наконец, надоедать моей подруге? Нравится она вам? Что, мои старички? Вам сейчас представится случай доказать ей, как чисты и возвышенны ваши чувства. В чем дело? Терпение. А ты иди на свое место.
– Королева, что ты собираешься делать? – прошептала немного обеспокоенная Агарь.
– Увидишь.
На другом конце зала де Биевр взял под руку маленького, толстого человека, на отворотах одежды которого сверкали усыпанные бриллиантами ордена.
– Дорогой Гильорэ! Пойдемте же, я вас представлю. Все горят желанием с вами познакомиться: Пьер Плессис, Сарра Рафаль.
– К столу, к столу! – доносилось со всех сторон.
– Мадемуазель Жессика, – вскричал сияющий Франсуа дю Ганж, – вам подавать сигнал. Садитесь. Все за вами последуют.
Агарь повиновалась, смущенная тем, что так неожиданно громко произнесли ее имя.
Королева Апреля, подмигнув, ущипнула ее за руку.
– Он, кажется, усердно занялся тобой, – шепнула она.
– Ладно, ладно. Пока я довольна.
Ослепленная светом, оглушенная смехом и речами, Агарь понемногу приходила в себя, слушая сидевшего справа от нее де Биевра. В самом начале обеда она, чтобы положить конец излишней фамильярности соседа слева, пододвинула стул к стулу графа. Он говорил с ней тихим голосом, скромно и уважительно, что так трогает сердца бедных, всем доступных женщин. Сидящий же напротив Франсуа дю Ганж всячески афишировал свой интерес к мадемуазель Жессике. Он суетился, то наливая ей бокал, то накладывая на тарелку закуски, ему хотелось обратить на нее всеобщее внимание, чего она так боялась.
– Разрешите уж мне, дорогой друг, поухаживать за моей соседкой, – осторожно заметил де Биевр.
– Смотрите же хорошенько за ней… Да неужели мне это только кажется?
– Что?
– Что изменился порядок мест?
– Во всяком случае, что-то не видно, чтобы кто-нибудь жаловался, – лицемерно произнес старик.
Около трех часов ночи тосты смешались с чудовищным гулом.
Королева Апреля, немного опьяневшая, со взбитыми белокурыми волосами вокруг розового личика, поднялась с бокалом шампанского в руке.