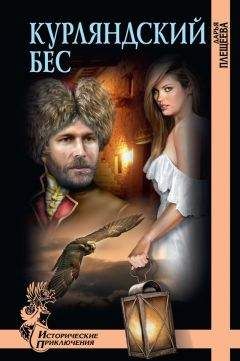— Ну у тебя и муж… — покачал головой Тимофей. — А пожаловаться кому-нибудь?
— Кому? Я на каждой исповеди батюшке нашему в грехах каюсь. А батюшка только вздыхает. Старенький он уже. Пытался Прокопа увещевать, так тот и ответил, что, мол, хоть и венчаны мы, но раз не живем, то должна же от жены польза быть… Да еще от жены, которая от чертовки родилась.
— Это как так, от чертовки? — удивился Тимоха.
— Я ведь дочка-то неродная, приемная, — принялась тихонечко рассказывать баба. — Родную-то мать и не знаю совсем. А про мать мою всякое говорили. Мол, к косарям на покосе баба из лесу ходит, с младенцем на руках. Приходит да обед у них отбирает. Вся из себя страшная да в волосьях. Так вот, на лужке, что косари обкашивали, камень был. Она, как хлеб да молоко отымет, да на камень-то тот и садится, есть начинает. Косари как-то камень этот в костер положили да накалили. Она как на камень-то села, да жопу-то и обожгла… Закричала тогда чертовка, да к лесу и побежала, а робетеночка-то и бросила. Хотели мужики чертенка-то утопить вначале, да жалко стало. Ну, принесли в деревню. Старики-то посмотрели да сказали, что робенка-то окрестить надо. Ежели, мол, помрет, так значит — чертенок. Ну а ежели выживет после крещенья-то, то, значит, душа-то христианская. Вот к попу сходили да Маланьей окрестили. А потом добрые люди нашлись, что меня к себе в дом-то и взяли…
Маланья уже в который раз за вечер принялась плакать. Акундинов, не зная, что сказать и как утешить бабу, поглаживал ее по голове, как малого ребенка.
— Глупости это, — твердо сказал Тимофей, — верно, была твоя мать больной какой-нибудь… Или девка в лесу жила да дите с кем-нибудь и прижила. А приходила да у дураков еду и брала. Ты же искать-то ее не пыталась?
— Ну где же ее искать-то? — удивилась баба. — Я ведь сначала мала была. Ну а потом, лес-то, он большой… Да и искать-то… Лес-от большой. Теперь уж косточек, наверное, и тех не сыщешь… Меня ведь и так с детства дразнили: «чертово семя, ведьмино племя». Когда Прокоп-то посватался, я, дура, вначале рада-радехонька была на выселки ехать. Думала, ну, наконец-то никто меня попрекать не будет. А тут, вишь, как… Деньги своей дыркой зарабатываю, как курва городская. Иной раз думаю, а может, в лес мне уйти да там и жить? А то, может, руки на себя наложить? Я ведь уже и местечко себе присмотрела. Только вот боюсь я, что за оградой зароют, без отпевания, как собаку какую…
— Слушай, а зачем твоему Прокопу столько денег? — поинтересовался Тимофей, пытаясь перевести неприятный разговор в другую сторону. — Хозяйство у вас справное, не бедствуете да не голодуете, как другие. Вон гречка с мясом, да полти куриные, да говядина…
— Все свое, — согласно кивнула баба. — Мы ведь только соль и покупаем. И оброк боярину Томскому вовремя плотим, и недоимок у нас нет. Да вишь, жаден Прокоп до денег-то. Я, грит, хочу цельную корчагу ефимков накопить, тогда и помирать можно. Как накопится копеечек, так он в город едет да на ефимки меняет.
— Ничего себе! — присвистнул Тимофей. — Цельную корчагу… Так ее всю жизнь копить можно, да хрен накопишь. Это же… охрененные деньги.
— Как же, всю жизнь, — хмыкнула Маланья. — Прошка, да он уже полкорчаги накопил. Он каждый ефимок, ровно девку, облизывает…
— Сколько же там твоих-то денег будет? — осторожно поинтересовался парень, прикидывая, под сколькими мужиками пришлось побывать Маланье. Ладно, если Прокоп менял ефимки по тридцать копеек. А ежели по шестьдесят?
— А я считала? — отмахнулась она. — Иной раз с двумя-тремя сразу. Бывало, прямо в санях подол задерут да в очередь меня и жучат, как кобели сучку…
— М-да, — только и сказал Тимофей.
— Ну, что, как я тебе? — со злым смешком спросила Маланья. — По-прежнему хочешь, чтобы я с тобой поехала? А не забоишься, что вот возьму да и соглашусь? И что дальше будет? Будешь меня всю жизнь попрекать, как я подол задирала за денгу да за копейку…
— Глупая ты, — провел Тимоха ей ладонью по щеке. — Нет тут твоей вины. Эх ты, баба-кошка…
Не кручинься, глупая кошка, коли мысли дурные взбредут,
Ты прижмись покрепче к Тимошке, вот, гляди, я с тобою тут.
Помурлычь мне тихонько на ушко, станет легче тебе и мне.
Обними меня мягкой лапкой, расскажи о своей беде.
И беда-подлюга отступит, вот была она, и вот — нет,
Разговор твою боль притупит, хочешь, дам я такой совет?
Чтобы жить нам с тобою долго, чтобы жить нам с тобой в любви,
Обними меня, баба-кошка, в сон, как в сказку, со мной уйди.
Маланья, уткнувшись в плечо Тимофея, выла, заливая слезами и его самого, и постель, и шубу. А тот молча лежал рядом, не мешая бабе. Наконец, наревевшись досыта, Маланья уснула…
…Убедившись, что женщина спит, Тимофей встал и оделся. Вышел, осторожно прикрыл за собою дверь и прошел через сени в зимник. У печки запалил от уголька лучинку и огляделся…
В передней, где шел «пир», стало еще гаже: вместо двух пустых посудин стояло четыре, а пол, застланный соломой, был завален огрызками, корками и еще чем-то липким. Оба собутыльника валялись на грязной соломе и храпели. А запах! К «ароматам» еды, перегара прибавился еще и стойкий запах мочи. Кажется, Костка и Прокоп даже не удосуживались выходить из избы.
«Как это Маланья сюда приходит да еще и стряпает? Угореть же можно!» — подумал Тимофей, прихватывая охотничий рожон из угла и подходя к спавшим мужикам.
— Прокоп, а Прокоп, — тихонько позвал хозяина Тимофей.
— У, — нехотя отозвался тот, не поднимаясь с пола. — Чево надо?
— Вставай, — сказал Акундинов, тыкая в зад хозяина тупым концом его же собственного рожна.
— Пшел на х… — отозвался тот пискливым голоском, ставшим с перепоя еще тоньше.
— Добро у тебя уводят, — сказал Тимоха страшным шепотом. — Вон, корчагу с серебром понесли… А сейчас и тебя жизни лишат…
— Где? Кто? — завизжал Прокоп, вскакивая так резво, будто-то бы и не пьяный вовсе. — Кто лишает?
— Да я и лишу! — отозвался Тимофей, всаживая в живот хозяина наконечник…
Прокоп, получивший в брюхо две пяди железа, умер не сразу… Он низко, как-то утробно зарычал. Не по-бабьи, а прямо как раненый медведь. Протянув руки, показавшиеся Тимохе медвежьими лапами, попытался было ухватить убийцу за горло, но тот крепко держал черенок. Умирая, мужик попробовал было насадить себя на острие поглубже, чтобы сгрести обидчика в охапку и придушить, но мешала перекладина. А на охотничьем рожне она для того и сделана, чтобы медведь не притянул охотника к себе…
Наконец изо рта Прокопа хлынула кровь, он захрипел и резко повалился на пол, едва не уронив убийцу. Тимофей все-таки сумел удержаться и даже не выпустил из рук древко. «Тьфу ты, черт! — ругнулся он мысленно. — Чуть в крови не испачкался! Замывай потом». Для верности наступил ногой на перекладину и постоял немного… Плохо, что свет от лучины не позволял рассмотреть глаза Прокопа, так как те сразу бы подсказали — умер или нет. Но вроде бы умер.