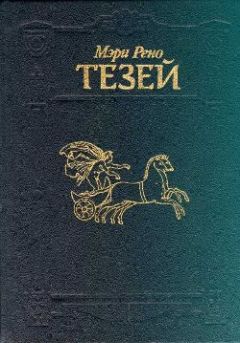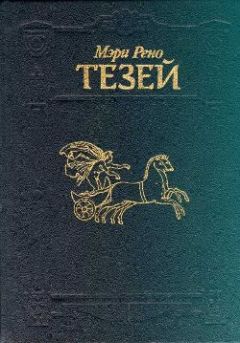Мегарский посол выступил на совете, добавив то, что царям не пристало писать в своих грамотах. А совет шел по всем правилам. Они подхватили у эллинов правило брать жезл оратора, и ни один не говорил без него. Вскоре все согласились на войну, но старшие были за то, чтобы отложить ее до весны. Всё это было прекрасно для тех, у кого впереди был остаток жизни. Я встал и протянул руку за позолоченным жезлом. И сказал вот что:
— Зимой люди съедают летнее богатство. Стоит ли позволить этим богомерзким ворам пировать до весны, поедая тучные стада, которые могут быть нашими? И чтобы пленные девушки, которые рады сменить хозяев, грели им постели?
Молодежи это понравилось, закричали, мол, правильно…
— И потом, — говорю, — за такой долгий срок они наверняка узнают о наших планах. У них будет время укрепить свои башни и зарыть сокровища в землю. Мы потеряем самую богатую часть добычи, это в лучшем случае.
Все согласились, что в этом есть смысл. Ксантий тоже слушал внимательно. Он напомнил людям, что мы будем всего в двух днях пути от дома, не за морем, и подал голос за войну осенью.
Мегарский посол предложил, чтобы Керкион, который уже бывал на Истме, вел передовой отряд. Я ждал от Ксантия какого-нибудь подвоха и не спускал с него глаз. Ему мог не понравиться шум одобрения, поднявшийся на совете. Но когда стало тихо, он сказал очень спокойно, что против этого возражений быть не может.
Я был ужасно доволен собой: решил, что теперь у нас с ним отношения наладились. После той схватки в опочивальне я пару раз ловил на себе его неприятный цепкий взгляд; но теперь, думаю, мое красноречие его покорило… Да, мальчик бывает особенно зелен, когда воображает себя мужчиной.
Для юноши — какая радость сравнится с подготовкой к его первой настоящей войне? Ты маслишь и полируешь древко копья и подгоняешь его по руке; точишь меч, и кинжал, и наконечник копья — так что лезвие режет волос; шлифуешь колесницу — так что в нее глядеться можно, как в зеркало; натираешь кожу щита пахучим воском… То и дело вспоминаешь хитрые выпады и защиты, и отрабатываешь их с друзьями… И по три раза в день, не меньше, заходишь в конюшню проведать своих лошадей! Я не знал, где мне взять колесничего, но Ксантий мне подыскал. До меня у него была единственная в Элевсине пара эллинских коней, я был польщен его вниманием.
Вечером накануне выступления я прогуливался по нижней Террасе и смотрел на горы Аттики. Они едва виднелись в потемневшем небе на востоке. Уже темнело; мои Товарищи были там же, рядом. Есть среди них хоть один, кому я могу доверить поручение? Сказать: «Если я паду в битве — отнеси мой меч в Афины и отдай его царю». Нет, настолько я не доверял никому. Оно пожалуй и лучше: ведь надежда никогда никому не вредила — так зачем посылать отцу печаль?.. И я пошел к своим парням, присоединился к их шуткам и смеху. Отрадно было видеть их веселье.
Царица в тот вечер рано поднялась из-за стола, и я проводил ее наверх. Говорили мы мало, но помнили что нам предстоят одинокие ночи. После последнего объятия я почувствовал, что глаза у нее влажные, и это меня растрогало; но сказал — пусть прибережет слезы до моей смерти, нечего забегать вперед богов.
Едва заснул — запела труба, послышались голоса людей. Надо было подниматься, вооружаться, собираться… Она лежала и смотрела на меня полузакрытыми глазами. Меховое покрывало с пурпурной каймой валялось скомканное на цветном полу; в рассветном сумраке красный порфирит и ее волосы смотрелись одинаково темными.
Я надел латы и поножи, взял стеганую белую тунику: воздух был морозный… На мне были и браслеты мои, и царское ожерелье — я никогда не старался идти в бой так, чтобы меня нельзя было отличить. Подобрав волосы, надел свой новый шлем из шкуры Файи и улыбнулся ей, чтобы напомнить, как мы в тот раз уладили нашу ссору… Но она лежала неподвижно и мрачно — одни лишь губы улыбнулись в ответ, а глаза нет. Окно посветлело, белая птица тихо свистнула и сказала: «Поцелуй меня еще».
Слышно было, как из конюшни выкатилась в Большой Двор моя колесница, я повернулся за щитом… «Чем я недоволен? — думаю. — Я здесь волк в собачьей стае. Любой миноец был бы счастлив на моем месте; среди них никто не может и мечтать о том, чтобы подняться выше, чем я сейчас. Они говорят — мужчина приходит и уходит, а лоно вынашивает ребенка… Я ведь не знаю сам, что может быть лучше этого, — стать избранником Матери, оживить женщину и умереть, — и я не хотел бы пережить вершину своей судьбы… Так чего же мне нужно? Или это эллинская кровь говорит во мне: „Есть нечто большее“?.. Но что это — не знаю… И не знаю, есть ли название, имя у этого большего… Быть может, есть какой-нибудь певец, — сын и внук великих бардов, — который знает нужное слово; а я только чувствую это в себе — как яркий свет, как боль…»
Но каждый знает, что нехорошо и неумно уходить на войну, поссорившись с женой, а уж царю — тем более. Так что я не стал спрашивать, почему она лежит, вместо того чтобы одеться и проводить меня. Наклонился поцеловать ее — голова поднялась навстречу, словно волна, притянутая растущей луной; губы, будто сами по себе, прильнули к моим — и она снова без звука опустилась на подушки.
Мне очень хотелось спросить, зачала ли она от меня; но я не знал — быть может, ее молчание священно и нарушить его не к добру… Поэтому я так и не сказал ничего — ушел.
Перейдя границу, мы соединились с мегарцами и быстрым маршем прошли до конца охраняемой дороги. Дальше она уходила на Истм, и там уже никто за ней не следил. Она заросла бурьяном; и вместо сторожевых башен, какие стоят вдоль дорог, там где правят законы, над ней высоко в скалах прятались разбойничьи твердыни. Иные были безымянны; у других не только имя было, но и громкая известность. Первым из таких был замок Сина.
Он стоял на горе, поросшей сосновым лесом, — квадратная башня, построенная Титанами из глыб темно-серого известняка в давнишние времена. Син устроил в ней свое логово, как устраиваются гиены в древних сгоревших городах. Стены были высоки; чтобы взять их, нам нужны были лестницы и тараны — мы принялись валить лес. И тут увидели, что страшные легенды были правы: на соснах висели куски человеческих тел. Где рука, где нога, где туловище… Такой у него был обычай: согнуть два молодых дерева, привязать к ним человека и отпустить. Некоторые из деревьев выросли на тридцать-сорок локтей, а веревки висели и на них: он давно уже так забавлялся. Именно забавлялся, — и сам этого не скрывал никогда, — никто из богов не требовал от него таких жертв. Мы взяли башню на третий день. Он настолько вознесся, принося себе жертвы в своей проклятой роще, — настолько был уверен в себе, — у него даже не было колодца внутри стен. Когда мы выбили ворота, он дрался во внутреннем дворе, словно загнанная крыса. Если бы я не узнал его, — видел его лицо в засаде, по дороге в Элевсин, — нам бы не взять его живьем.