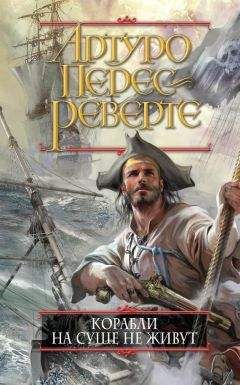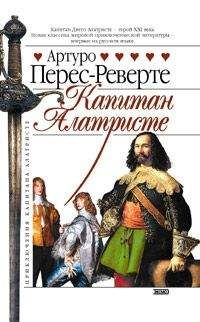– Куда ж еще?
Гарроте провел языком по губам, раздул фитиль и теперь медленно наводил мушкет, щуря левый глаз и поваживая кончиком указательного пальца по спусковому крючку, словно это был сосок веселой девицы. Выглянув еще раз, Алатристе заметил мелькнувшую над голландской траншеей непокрытую голову.
– Еще один сдохнет без покаяния, – медленно проговорил Гарроте.
Следом раздался выстрел. Вспышка, облачко порохового дыма – и голова голландца исчезла. Послышались крики ярости, две-три пули взвихрил» землю перед бруствером испанской траншеи. Гарроте, уже успевший юркнуть вниз, смеялся сквозь зубы.
Грянули новые выстрелы, сопровождаемые злобной бранью по-фламандски.
– Да пошли бы вы… – сказал Мендьета, готовя к расправе очередное насекомое.
Себастьян Копонс открыл и тотчас вновь закрыл один глаз. Выстрел Гарроте прервал послеобеденную дрему, которой он предавался, присев у бруствера и уткнув голову в засаленный рукав. Братья Оливаресы тоже заинтересовались, подняли косматые – ну турки, сущие турки! – головы. Алатристе соскользнул вниз по земляной стенке, на военном языке именуемой «крутость», присел. Нашарил в сумке ломоть черствого черного хлеба, припасенный еще со вчерашнего дня. Поднес его ко рту и перед тем, как начать жевать, долго размачивал слюной. Тянуло тошнотворной вонью от туши мула, да и в самой траншее воздух не благоухал, так что изысканной трапезу назвать было нельзя, однако выбирать не приходилось – и этот-то ломоть был все равно что Валтасаров пир. До ночи провианта не подвезут – при свете дня к их траншее не подберешься: все простреливается.
Мендьета поймал очередную вошь и пустил ее гулять по ладони. Потом, наскучив игрой, прихлопнул. Гарроте прочищал шомполом еще горячий ствол аркебузы, напевая себе под нос что-то итальянское.
– Эх, кто в Неаполе не был… – проговорил он, осветив белозубой улыбкой по-мавритански темное лицо.
Весь взвод знал, что Курро Гарроте два года прослужил в Сицилийском полку и еще четыре – в Неаполе, а потом вынужден был сменить, так сказать, климат после череды не вполне ясных похождений: тут были и женщины, и поножовщина, и грабеж с подкопом и покушением на убийство, и срок в тюрьме Викариа, и добровольное заточение в церкви Ла Капела – словом, все, что полагается.
Добавить следует, что в промежутке между тем и этим нашел Гарроте время поплавать на галерах нашего государя вдоль берберийского побережья и у восточных островов, разоряя земли нечестивых язычников, грабя турецкие суда. По его словам, в те годы он скопил столько, что мог бы преспокойно выйти в отставку. И вышел бы, кабы не бабы, во множестве чрезвычайном попадавшиеся ему на жизненном пути, да не погибельное пристрастие к азартным играм, ибо относился наш Гарроте к тем, кто при виде стаканчика с костями или свежей колоды теряет разум и готов проиграть с себя все.
– Италия… – тихо произнес он, устремив взор в неведомую даль и позабыв убрать с лица плутоватую улыбку.
Название страны прозвучало как имя женщины, и капитан Алатристе знал, почему. Хоть плавания его по морю житейскому были не столь разнообразны, как у Гарроте, ему тоже нашлось бы что вспомнить об Италии, тем паче что во фламандской траншее воспоминания эти делались особенно сладостны. Как и все здешние ветераны, он тосковал по этой стране, а точней говоря – по своей юности, протекшей под благодатной синью Апеннинских небес. В двадцать семь лет выйдя из полка, отличившегося в Валенсии при подавлении восстания морисков, он добился перевода в Неаполь, чтобы драться с турками, берберами и венецианцами. Своими глазами видел, как горела на траверзе Колеты басурманская эскадра, высаживался с капитаном Контрерасом на острова Адриатики, участвовал в изнурительном и кровопролитном деле при Керкенесе, где с помощью однополчанина по имени Диего Дуке де Эстрада вынес на себе из боя тяжело раненного юношу – будущего графа де Гуадальмедину. И в те годы щедроты фортуны и прелести Италии неизменно чередовались с тяжкими мытарствами и великими опасностями, однако им не под силу было отравить сладостный вкус воспоминаний об увитых виноградом беседках на пологих склонах Везувия, о товарищах, о музыке, о вине, что подавали в таверне Чорильо, о прелести тамошних женщин. За вёдром – ненастье, за счастьем – несчастье, и в тринадцатом году его галера в Босфорском проливе нарвалась не в добрый час на турок: половину команды изрубили ятаганами, изрешетили стрелами, пустили чайкам на корм; сам Алатристе был тогда ранен в ногу, взят в плен, однако же повезло – корабль, в трюме которого везли его вместе с прочими, перехватили испанцы. По истечении еще двух лет, когда новому веку шел пятнадцатый год, Диего Алатристе, вступив в возраст Христа, оказался в числе полутора тысяч испанцев и итальянцев, которые, погрузившись на пять галеонов, четыре месяца кряду опустошали левантинское побережье, возвращаясь в Неаполь с богатейшей добычей. Но колесо Фортуны, крутанувшись в очередной раз, сбросило его во прах: большеглазая женщина, белокурая, но чернобровая, помесь испанки с итальянкой, из тех, что по виду мухи не обидят, а на деле совладают с полуротой аркебузиров, сначала попросила купить ей полфунтика генуэзских слив, потом – золотое ожерелье, потом – шелковых платьев, а потом, как водится, растрясла его до последнего грошика. Завершилось это приключение вполне в духе комедий Лопе: навестив свою красавицу в неурочное время, капитан застал ее в непозволительно тесном соседстве с неким незнакомцем, сохранившим на себе из одежды одну лишь сорочку. Хозяйка, нимало не смутясь, без заминки и запинки отрекомендовала его своим двоюродным братом, но кое-какие обстоятельства – да не кое-какие, а изрядные – лишали ее доводы должной убедительности и наводили на мысль о том, что приход Алатристе помешал излиянию родственных – или, может, двоюродственных? – чувств. Впрочем, в капитановы года подобной чуши уже не верят. Так что свистнувший наотмашь клинок одарил хозяйку отметиной поперек щеки, а гостю – он, кстати, так без штанов и вступил в схватку, что пагубно сказалось на его боевом духе и фехтовальном мастерстве, – вошел пяди на две между грудью и спиной; Алатристе же поспешил, пока не зацапали, убраться от греха подальше. В его случае это означало как можно скорей отплыть в Испанию, что ему сделать и удалось, благодаря давнему приятелю, помянутому уже Алонсо де Контрерасу, вместе с которым они, тринадцатилетние в ту пору, отправились во Фландрию сражаться под знаменами кардинала принца Альберта.
– Брагадо идет, – сказал Гарроте.
И в самом деле командир роты шел по траншее, пригнувшись и сняв шляпу, чтоб не отсвечивать перед голландскими стрелками, засевшими на стене равелина. Тем не менее укрыть от них свою шестифутовую стать леонцу не удалось – словно приветствуя его появление, ударили один за другим два мушкета, и пули вжикнули над бруствером.