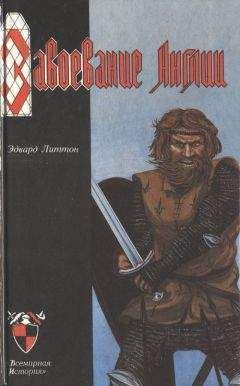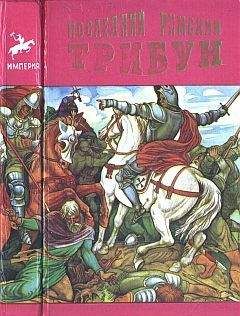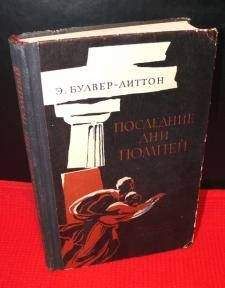— Батюшка, — ответил Гарольд, предвидевший, к чему клонит отец, и призвавший на помощь все свое самообладание, чтобы скрыть овладевшее им волнение, — я чрезвычайно обязан тебе за твои заботы о моей будущности и надеюсь извлечь пользу из твоих мудрых советов. Я попрошу короля отпустить меня к моим останглам. Я созову там народное собрание, буду проповедовать о народных правах, разберу все недоразумения и постараюсь угодить не только танам, но и сеорлям… Но Альдита, дочь Альгара, никогда не будет моей женой!
— Почему? — спросил Годвин, бросая на Гарольда пытливый взгляд.
— Потому, что она мне не нравится, несмотря на всю свою красоту, и никогда не могла бы понравиться; потому, что мы с Альгаром постоянно были соперниками, как на поле боя, так и в Совете, а я не принадлежу к тем людям, которые способны продать свою любовь, хоть и умею сдерживать свою ненависть. Граф Гарольд сумеет без помощи брака привлечь к себе войско и завладеть властью.
— Ты сильно ошибаешься, — возразил Годвин холодно. — Я знаю, что тебе нетрудно было бы простить Альгару все причиненные тебе обиды и назвать его своим тестем, если бы ты чувствовал к Альдите то, что мудрецы называют глупостью.
— Разве любовь — глупость, батюшка?
— Несомненно, — ответил старый граф не без грусти. — Любовь — это безумие, в особенности для тех, кто убедился, что вся жизнь состоит из забот и вечной борьбы… Неужели ты думаешь, что я любил свою первую жену, надменную сестру Канута? А Юдифь, твоя сестра, любила ли Эдуарда, когда он предложил ей разделить с ним престол?
— Ну, так пусть Юдифь и будет единственной жертвой нашего честолюбия.
— Для нашего «честолюбия», пожалуй, и действительно достаточно ее, но не для безопасности Англии, — сказал невозмутимо старик… — Подумай-ка, Гарольд; твои годы, твоя слава, твое общественное положение делают тебя свободным от всякого контроля над тобой со стороны отца, но от опеки своей родины ты избавишься только тогда, когда будешь лежать в могиле… Не упускай этого из виду, Гарольд! Не забудь, что после моей смерти ты должен будешь укрепить свою власть для пользы Англии, и спроси себя по совести: каким еще способом ты перетянешь на свою сторону Мерцию и что может быть для тебя опаснее ненависти Альгара? Не станет ли этот враг вечным препятствием к достижению твоего полного величия — ответь же, положа руку на сердце, хоть самому себе.
Спокойное лицо Гарольда омрачилось: он начал понимать теперь, что отец прав, и не нашел, что ответить. Старик видел, что победа осталась за ним, но счел благоразумным не показывать этого. Он закутался в свой длинный меховой плащ и направился к двери; только на пороге он обернулся и добавил:
— Старость дальновидна, потому что богата опытом, и я советую тебе не пренебрегать удобным случаем, чтобы не раскаиваться впоследствии. Если ты не завладеешь Мерцией, то постоянно будешь находиться на краю бездны, даже если и займешь самое высокое положение в обществе… Ты теперь, как я подозреваю, любишь другую, которая служит преградой твоему честолюбию; если ты не откажешься от нее, то или разобьешь ее сердце, или всю жизнь будешь мучиться угрызениями совести. Любовь умирает, как только удовлетворится; честолюбию же нет пределов: его ничто не удовлетворит.
— Я не обладаю подобным ненасытным честолюбием, батюшка, — ответил Гарольд серьезно, — мне незнакома эта безграничная любовь к власти, которая кажется тебе вполне естественной… Я не имею…
— Семидесяти лет! — перебил старик, заканчивая мысль сына. — В семьдесят лет каждый человек, попробовав власти, будет говорить так, как говорю я, и, наверное, каждый испытал на своем веку и любовь? Ты не честолюбив, Гарольд… Ты еще не знаешь самого себя, или не имеешь ни малейшего понятия о честолюбии. Я предвижу впереди награду, ожидающую тебя. Но не могу назвать ее… Когда время возложит эту награду на кончик твоего меча, тогда скажи: «Я не честолюбив!» Думай и решайся.
Гарольд долго соображал, но решил не так, как хотел старый граф. Он не имел еще семидесяти лет, а его награда была еще скрыта в глубине горы, хотя гномы уже ковали золотой венец на своих подземных наковальнях.
Пока Гарольд обдумывал слова старого графа, Юдифь сидела на низкой скамеечке у ног английской королевы[31] и слушала ее уговоры почтительно, но с тоской в душе.
Спальня королевы, как и кабинет короля, примыкала с одной стороны к молельне, а с другой — к обширной прихожей; нижняя часть стен была оклеена обоями; темно-красный свет, пробивавшийся сквозь цветные стекла высокого и узкого окна в виде саксонской арки, озарил склоненную голову королевы и окрасил ярким румянцем ее бледные щеки. В данную минуту она вполне могла служить изображением молодой красоты, увядающей во цвете лет.
Королева говорила своей юной любимице:
— Отчего ты колеблешься? Или ты воображаешь, что свет даст тебе счастье? Увы! Оно живет только одной надеждой и угасает вместе с ней!
Юдифь только вздохнула и печально склонила прекрасную головку.
— А жизнь монахини — это надежда, — продолжала королева. — Она не знает настоящего, а живет одним будущим, она слышит пение невидимых духов, как слышал его Дунстан при рождении Эдгара. Ее душа возносится высоко над землей к небесной обители!
— А где находится ее сердце? — спросила Юдифь с глубокой тоской.
Королева замолчала и с нежностью положила свою руку на плечо молодой девушки.
— Дитя! Оно не живет суетными надеждами и мирскими желаниями. Точно так и мое, — сказала королева. — Мы можем ограничить нашу душевную жизнь и не слушаться сердца; тогда горе и радость исчезают для нас… Мы смотрим равнодушно на все земные бури. Знай, милая Юдифь: я сама испытала взлеты и падения; я проснулась во дворце английской королевой, а солнце не успело зайти, как король уж сослал меня, без всякого почета, без слова утешения в мрак Вервельского храма. Мой отец, мать и братья были внезапно изгнаны, и горькие мои слезы лились не на грудь мужа.
— Тогда, королева, — подхватила Юдифь, покраснев от гнева, — тогда, наверное, в тебе заговорило сердце?
— О да, — невольно произнесла королева, сжимая руку девушки, — но душа взяла верх и сказала мне: «Счастливы страждущие!» Тогда я обрадовалась этому испытанию, так как Господь испытывает только тех, кого любит.
— Но как твои изгнанные родственники, эти храбрые рыцари, которые возвели короля на престол?
— Я утешалась мыслью, — ответила на это королева, — что мои молитвы за них будут угоднее Богу, если он услышит их не из царских палат… Да, дитя мое, я испытала почет и унижение и научила сердце смиряться.