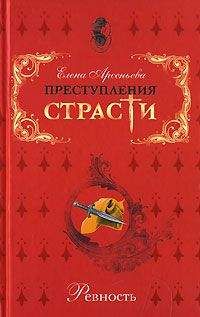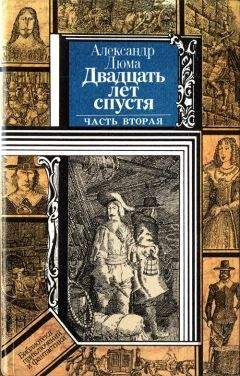— Что ж! Говори. Если дело зависит только от меня, то считай, что оно уже сделано.
— О, сударь, оно зависит только от вас!
— Я жду.
— Сударь, милость, о которой я вас прошу, заключается в том, чтоб вы называли меня не Мушкетоном, а Мустоном. С тех пор как я имею честь состоять управляющим его милости, я ношу это имя, как более достойное и внушающее почтение моим подчиненным. Вы сами знаете, сударь, как необходима субординация для челяди.
Д’Артаньян улыбнулся: Портос удлинял свою фамилию, Мушкетон укорачивал свою.
— Так как же, сударь? — спросил, трепеща, Мушкетон.
— Ну, конечно, мой милый Мустон, конечно, — ответил Д’Артаньян. Будь покоен, я не забуду твоей просьбы и, если тебе угодно, даже не буду впредь говорить тебе «ты».
— О! — воскликнул, покраснев от радости, Мушкетон. — Если вы окажете мне такую честь, сударь, я буду вам признателен всю жизнь. Но, может быть, я прошу уж слишком многого?
«Увы, — подумал Д’Артаньян. — Это совсем мало по сравнению с теми неожиданными напастями, которые я навлеку на беднягу, встретившего меня так сердечно!»
— А вы долго пробудете у нас, сударь? — спросил Мушкетон.
Лицо его, обретя прежнюю безмятежность, расцвело опять, как пион.
— Я уезжаю завтра, мой друг, — ответил д’Артаньян.
— Ах, сударь, неужели вы приехали только для того, чтобы огорчить нас?
— Боюсь, что так, — произнес д’Артаньян совсем тихо, и отступавший с низкими поклонами Мушкетон его не расслышал.
Раскаяние терзало д’Артаньяна, несмотря на то что сердце его изрядно очерствело.
Он не сожалел о том, что увлек Портоса на путь, опасный для его жизни и благополучия, ибо Портос охотно рискнул бы всем этим ради баронского титула, о котором мечтал пятнадцать лет; но Мушкетон-то желал только одного: чтобы его звали Мустоном; так не жестоко ли было отрывать его от блаженной и сытой жизни? Д’Артаньян раздумывал об этом, когда вернулся Портос.
— За стол, — сказал Портос.
— Как за стол? — спросил д’Артаньян. — Который же теперь час?
— Уже второй, мой милый.
— Ваше обиталище, Портос, просто рай: здесь забываешь о времени. Я следую за вами, хоть я и не голоден.
— Идем, идем. Если не всегда можно есть, то пить всегда можно; это один из принципов бедняги Атоса, и в его правоте я убедился с тех пор, как начал скучать.
Д’Артаньян, который, как истый гасконец, был по натуре весьма умерен, по-видимому, не очень верил в правильность аксиомы Атоса; все-таки он старался по мере сил не отставать от хозяина дома.
Однако, глядя, как ест Портос, и сам усердно прихлебывая вино, д’Артаньян не мог отделаться от мысли о Мушкетоне, тем более что Мушкетон, не прислуживая сам за столом, что при нынешнем положении было бы ниже его достоинства, то и дело появлялся у дверей и выказывал свою благодарность д’Артаньяну, посылая им вина самые лучшие и самые выдержанные.
Поэтому, когда за десертом Портос по знаку д’Артаньяна отпустил лакеев и друзья остались вдвоем, д’Артаньян обратился к Портосу:
— А кто же будет вас сопровождать в поход, Портос?
— Конечно же, Мустон, — ответил спокойно Портос.
Д’Артаньян был поражен. Ему уже представилось, как переходит в скорбную гримасу радушная улыбка управителя.
— А ведь Мустон, — сказал д’Артаньян, — уже не первой молодости, мой милый; к тому же он разжирел и, может быть, утратил навык к боевой службе.
— Я знаю, но я привык к нему. Да, впрочем, он и сам не захочет покинуть меня: он слишком меня любит.
«О, слепое самолюбие!» — подумал д’Артаньян.
— Но ведь и у вас самого, кажется, служит все тот же лакей: этот добрый, храбрый, сметливый… как бишь его зовут?
— Планше. Да, он снова у меня, но теперь он больше не лакей.
— А кто же?
— На свои тысячу шестьсот ливров, — помните, те деньги, которые он заработал при осаде Ла-Рошели, доставив письмо лорду Винтеру, — он открыл лавочку на улице Менял и стал кондитером.
— Так он кондитер на улице Менял? Зачем же он у вас служит?
— Он немножко напроказил и боится неприятностей.
И мушкетер рассказал своему другу, как он встретил Планше.
— Да, милый мой, — сказал Портос, — что, если б кто-нибудь сказал вам в былое время, что Планше спасет Рошфора, а вы потом укроете его от преследования?
— Я не поверил бы. Но что поделаешь? События меняют человека.
— Совершенно верно, — согласился Портос, — но что не меняется или, вернее, что меняется к лучшему — это вино. Отведайте-ка испанское, которое так ценил наш друг Атос: это херес.
В эту минуту управитель вошел за приказаниями относительно завтрашнего меню, а также предполагаемой охоты.
— Скажи-ка, Мустон, — спросил Портос, — мое оружие в порядке?
Д’Артаньян забарабанил по столу пальцами, чтобы скрыть свое смущение.
— Ваше оружие, монсеньер? — спросил Мушкетон.
— Какое оружие?
— Да мои доспехи, черт возьми!
— Какие доспехи?
— Боевые доспехи.
— Да, монсеньер, — я так думаю, по крайней мере.
— Осмотри их завтра и, если понадобится, вели почистить. Какая лошадь у меня самая резвая?
— Вулкан.
— А самая выносливая?
— Баярд.
— А ты какую больше всего любишь?
— Я люблю Рюсто, монсеньер, это славная лошадка, мы с ней прекрасно ладим.
— Она вынослива, не правда ли?
— Помесь нормандской породы с мекленбургской. Может бежать день и ночь без передышки.
— Как раз то, что нам нужно. Ты приготовишь к походу этих трех лошадей и вычистишь или велишь вычистить мое оружие; да пистолеты для себя и охотничий нож.
— Значит, мы отправляемся путешествовать? — тревожно спросил Мушкетон.
Д’Артаньян, выстукивавший до сих пор неопределенные аккорды, забарабанил марш.
— Получше того, Мустон! — ответил Портос.
— Мы едем в поход, сударь? — спросил управитель, и розы на его лице сменились лилиями.
— Мы опять поступаем на военную службу, Мустон! — ответил Портос, стараясь лихо закрутить усы и придать им воинственный вид, от которого они давно отвыкли.
Едва раздались эти слова, как Мушкетон затрепетал; его толстые с красноватыми прожилками щеки дрожали. Он взглянул на д’Артаньяна с таким невыразимо грустным упреком, что офицер не мог вынести этого без волнения. Потом он пошатнулся и сдавленным голосом спросил:
— На службу? На службу в королевской армии?
— И да и нет. Мы будем опять сражаться, искать всяких приключений словом, будем вести прежнюю жизнь.
Последние слова как громом поразили Мушкетона. Именно эта самая ужасная «прежняя жизнь» и делала «теперешнюю» столь приятной.