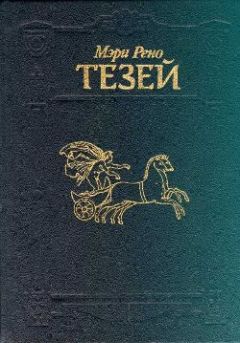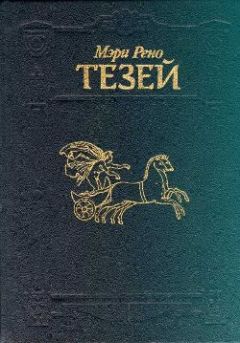— Элевсинцы, вы разве не видите, к чему он клонит?! Этот вороватый эллин хорошо знает разбойничьи тропы. Он так хорошо знает Истм, словно сам тут жил… Кто может сказать, чем он занимался до того, как пришел к нам?.. А теперь он думает, что может восстановить вас против человека, который привел вас к победе, — как раз перед разделом добычи!..
Я был готов броситься на него, но сдержался. То, что он потерял голову, мне помогло не потерять. Я презрительно скривился и бросил сквозь зубы:
— У кого что болит!..
Даже его люди рассмеялись. А потом говорю:
— Слушай мой ответ, а все элевсинцы — свидетели. Ты бил по мне чужими руками — теперь испытай свои! Бери щит и копье, если хочешь — меч… Но сначала выбери свою долю и отложи в сторону. Если ты падешь, — клянусь Зевсом Вечноживущим, — я не трону оттуда ничего: ни золота, ни бронзы, ни женщины, — всё будет роздано по жребию твоим людям. И с моей долей — так же, чтобы мои люди не проиграли из-за моей смерти. Согласен?
Он молчал. Это навалилось на него раньше, чем он ожидал. Несколько эллинских дворян одобрительно закричали… Пилай взмахнул рукой успокоить их, но вместо того и мои товарищи подхватили: «Тезей!» Все остальные глядели ошарашенно, — ведь это против обычая давать царю имя, — и Ксантий воспользовался моментом:
— Слушай, ты, выскочка, щенок! Занимайся своим делом, ради которого тебя Богиня выбрала, если ты способен к нему!..
Но я недаром слушал минойские песни — я знал теперь, что делать царю, если его обижают.
— Раз она меня выбрала, — говорю, — почему ты хотел убрать меня до срока? Я взову к ней, и она меня поддержит… Мать! Богиня! Ты вознесла меня, пусть ненадолго; ты обещала мне славу взамен короткой жизни — обращайся же со мной как с сыном, не допусти, чтоб меня оскорбляли безнаказанно!
Тут он понял, что деваться ему некуда. Никто не станет взыватъ к богам ради шутки, и все это знают.
— Лошадник, — сказал он, — мы и так тебя терпели слишком долго. Ты вознесся выше своей судьбы и превратился в оскорбление для богов; они покарают нас, если мы не прекратим твое богохульство. Я принимаю вызов твой и твои условия… Выбирай свою долю, и, если ты падешь, твои люди ее разделят. А что до оружия — пусть будут копья.
Мы стали выбирать себе добычу. Я видел, мои мальчики потешались над его непривычной скромностью; он не хотел, чтоб его люди были заинтересованы в моей победе. А я взял столько, сколько считал справедливым. Но по обычаю Керкион прежде всего выбирает себе женщину: время его коротко, а ту радость, что человек уже испытал, — это у него не отнимешь…
Наши пленницы встали, чтоб их было видно, когда я подошел к ним. Там была девушка лет пятнадцати, высокая, стройная, с длинными светлыми волосами, падавшими на лицо. Я взял ее за руку и вывел в сторону. До того — в свете костров — я видел ее глаза, блестевшие из-под волос; теперь она опустила их, и рука ее была холодна. Чтобы она была девственна — об этом и речи быть не могло; но я почему-то вспомнил мать, уходящую в тот день в священную рощу. И сказал Ксантию:
— Если я умру — проследи, чтобы она досталась одному, а не превратилась в общую игрушку, шлюх у нас и так достаточно. Она теперь царская наложница, и обращайтесь с ней должным образом.
Мы поклялись перед Пилаем и всем войском, призывая в свидетели Реку и Дочерей Ночи… Потом люди расступились, освободив большую площадку меж костров, и мы взялись за копья и щиты. Пилай поднялся на ноги, сказал:
— Начинайте.
Я знал, что буду не в форме. Устал в битве, и раны мешали двигаться… Но и ему было не легче. Мы стали обходить друг друга, пробуя выпады копьем. Один круг, другой… Я конечно же не смотрел по сторонам, но краем глаза все время видел стену лиц вокруг, красную от огня костров, словно плывущую в темноте взад и вперед, влево и вправо, — это по ходу боя получалось, — эти лица все время были вокруг, и именно их я помню всего четче.
Он отбил в сторону мой выпад, я поймал на щит его удар; но не смог задержать так долго, чтобы пробить его защиту. Мы обошли еще круг и нанесли друг другу по скользящей ране — он мне у колена, я ему на плече… Я выбрал себе длинный, но узкий щит с перехватом посреди, потому что он легче, а у Ксантия был прямосторонний, из тех, что закрывают бойца целиком. Я удивлялся: неужто он достаточно свеж для такой тяжести?
Мы крутились на месте и двигались взад-вперед в выпадах — и лица колыхались в ночи, как занавес на ветру. И все время я уговаривал себя расстаться с копьем. Бросок — рискованная вещь. Он более внезапен, чем удар, — его труднее отбить; но если промахнешься — у тебя остается лишь меч длиной в полтора локтя, против копья в пять; и тогда надо быть счастливчиком, чтобы выкрутиться из этого дела.
Я посмотрел на его глаза — красные в свете костра, как сердолики, — и решился. Показал ему бок… Он был быстр и едва не достал меня, но я отскочил, поднял щит, — будто для защиты, — так что ему не было видно мою правую руку, и в тот же миг бросил копье. Но он, как видно, знал этот трюк, — копье пришлось по щиту. Бросок был такой, что наконечник пробил двойную бычью шкуру и застрял в ней; он не мог высвободить щит, — пришлось бросить, — но у него осталось копье против моего меча.
Он пошел на меня, нанося быстрые короткие уколы, и мне приходилось отбивать их не только щитом, но и мечом, — клинок сразу же затупился, — а достать его я не мог никак, и он отжимал меня. За спиной что-то ударило в землю, похоже на камень; потом еще и еще… Значит, в конце концов они от меня отвернулись, я всегда был для них чужим!.. И в этот момент, отступив еще на шаг, я увидел, что это было: вокруг меня, там и сям, в земле торчали три копья, так что их сразу можно было взять наизготовку.
Убирать меч в ножны было некогда, я воткнул его в землю и подхватил одно из копий. Ксантий посмотрел на меня с горечью: ему никто не подал щита. Он готовился к броску — я бросил первым. Копье вошло ему меж ребер, он уронил свое и упал. Скатился шлем, вокруг по земле рассыпались спутанные рыжие волосы… Волосы точь-в-точь, как у нее.
Вокруг него собрались его офицеры; один спросил, не выдернуть ли копье…
— Нет, — сказал он, — вместе с копьем выйдет душа. Позовите Керкиона.
Я подошел и встал над ним. Видно было, что рана его смертельна, и я больше не имел на него зла. Он заговорил:
— Оракул сказал верно… Ты и есть кукушонок, без сомнения…
Лицо у него было растерянное, будто у маленького мальчика. Он потрогал копье, торчавшее в боку, — кто-то держал древко на весу, чтобы ему было не так больно, — потрогал и спросил:
— Почему они это сделали? Что они выиграли?
Наверно он имел в виду мою долю добычи, которую раздали бы, если бы он победил.