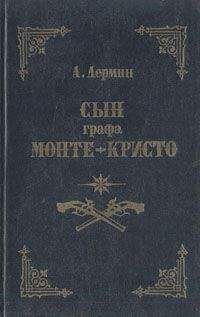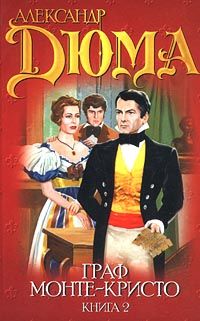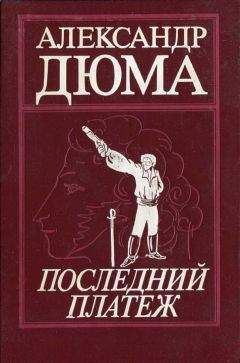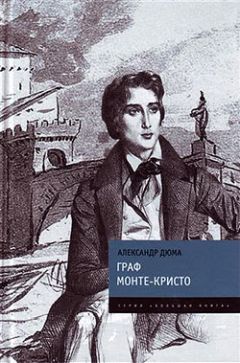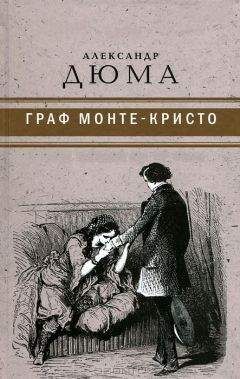В ту же минуту Лучиола вскочила и, бросив на графа взгляд, полный глубокого презрения, произнесла своим звучным чистым голосом:
— Жалкий трус!
С криком ярости Сан-Пиетро выхватил кинжал. Ни один мускул не дрогнул на прекрасном бледном лице Лучиолы, не спускавшей глаз с графа, и она крепко стиснула в руке драгоценный стилет, решив не достаться живой Сан-Пиетро.
Внезапно звучный голос заглушил на мгновение шум и общее смятение:
— Бенедетто! Убийца! Беглый каторжник! Берегись! Бог не допустит такого надругательства! Будь проклят!
Граф Сан-Пиетро, любимец Радецкого, дрожа, обернулся в ту сторону, откуда раздался голос, показавшийся ему ужаснее трубы последнего судилища.
Напротив него, на пьедестале мраморной статуи, стоял человек, которого он узнал в ложе: этот человек рукой указывал на него. И вне себя от бешенства, Бенедетто выхватил пистолет и направил его на графа Монте-Кристо. Выстрел грянул, но когда дым рассеялся, Монте-Кристо стоял невредимый на прежнем месте, а через расступившуюся толпу пара лошадей была подведена к экипажу Лучиолы. В одно мгновение лошади были впряжены, форейтор-негр хлопнул бичом, и экипаж быстро покатился. Несколько выстрелов раздалось вслед, но они не причинили никакого вреда, и скоро карета скрылась из вида.
— Смерть и ад! — проскрежетал Бенедетто, добавив: — Но этот уж не уйдет от меня!
И полный ярости, он бросился на графа.
Монте-Кристо стоял неподвижно. Бенедетто уже приставил дуло пистолета к его груди, когда граф внезапно стиснул правую руку негодяя. С хриплым стоном Бенедетто уронил оружие и упал на колени — железное пожатие Монте-Кристо чуть не раздавило ему кисть. С быстротой молнии схватив пистолет, граф, в свою очередь, приложил оружие ко лбу Бенедетто и произнес громким и звучным голосом:
— Все сообщники этого негодяя, называющего себя графом Сан-Пиетро, знайте, с кем вы имеете дело! Слушайте все: человек этот — беглый каторжник и убийца своей матери!
Крик ужаса раздался в толпе, и солдаты, известные своей грубостью, с отвращением отвернулись от изверга.
Бросив пистолет, Монте-Кристо сошел с пьедестала и медленно направился по улице среди расступившихся перед ним солдат.
Почувствовав себя в безопасности, Бенедетто вскочил и, обращаясь к окружающим, прошипел:
— Не верьте ему — он солгал, он — враг Австрии! Что скажет маршал Радецкий, если он ускользнет от вас?
При имени Радецкого слепой страх овладел солдатами: они знали, что всякое человеческое чувство будет вменено в преступление перед судом маршала, и поэтому немедленно бросились в погоню за графом. Они уже почти нагнали его, когда он внезапно исчез. Ближайшим к нему солдатам показалось, что он мгновенно вошел в раскрывшуюся стену.
Но загадка разрешилась, когда преследователи узнали, что таинственная стена принадлежала дому Бертелли, имевшему множество тайных ходов.
— За мной! — прокричал Бенедетто, бросаясь в «Казино» впереди всех, и тут же столкнулся с майором Бартоломео. Бенедетто схватил старого солдата за горло и начал душить, приговаривая:
— Негодяй, ты предал нас, но ты за это заплатишь!
— Я? — прохрипел майор.— При чем здесь я?
— О, не лги, я тебя знаю! Давно ли ты назывался Кавальканти и разыгрывал роль моего отца? Эй, люди, возьмите этого человека! Я сам доложу о нем маршалу!
9. Военная песня итальянских патриотов
Управляемые стильными руками Али, породистые кони летели, как вихрь, по улицам Милана. Лучиола теперь поменялась ролями с Миллой: она рыдала, между тем как маленькая блондинка утешала ее.
— О, Милла,— говорила Лучиола, плача.— Аслитта, наверное, убит, иначе он сдержал бы слово, а если я потеряла его, мне незачем жить!
— Но, Евгения,— успокаивала ее Милла,— зачем ты делаешь такие ужасные предположения? Я…
Внезапная остановка экипажа прервала Миллу: негр соскочил с козел, отворил дверцу и рукой пригласил дам выйти.
Подруги вошли в приемную в древне-итальянском духе, а когда перед ними отворилась украшенная арабесками дверь, они прошли дальше — в залу, обитую черным бархатом. Несколько слуг в черных ливреях зажгли свечи в большой позолоченной люстре и исчезли, а к дамам подошел наш старый знакомый Бертуччио.
— Синьора,— обратился он к Лучиоле,— не бойтесь ничего: вы в доме друга! — и, распахнув портьеру, он знаком пригласил их в соседнюю комнату.
Лучиола и Милла вскрикнули от изумления — бледно-голубой шелковый потолок казался небосклоном, с потолка на серебряных цепях спускались лампы в виде лотосов, вдоль стен стояли низкие диваны, обитые бледно-голубой шелковой материей, затканной серебряными цветами. Посреди покоя стояло также покрытое серебристой тканью ложе, с которого навстречу подругам поднялась красавица в пурпурной шелковой одежде.
— Приветствую вас, сестры,— произнесла Гайде (а это была она) мягким и приятным голосом,— я ожидала вас.
Лучиола и Милла склонились над белой и нежной ручкой, протянутой им гречанкой. Не допустив их поцелуя, Гайде сама поцеловала в лоб обеих девушек и усадила их рядом с собой.
— Ты выказала много мужества, сестра,— обратилась Гайде к Лучиоле,— но я не тревожилась за тебя: он обещал тебя оберегать.
Лучиола поняла, кто был этот «он», и робко сказала:
— По-видимому, вам известна связь всех этих ужасных событий… Можете ли вы ответить мне на один вопрос?
— Охотно, говори без боязни, и я отвечу тебе.
После минутного колебания Лучиола твердо начала:
— В Милане есть патриот, готовый отдать жизнь за освобождение Италии.
— Ты говоришь о маркизе Аслитте? — кротко перебила ее Гайде.
— Да, о нем, и если вам известно мое прошлое, то вы поймете, что лишь одна любовь к нему заставляет меня еще дорожить жизнью.
— Говоря откровенно, сестра моя,— проговорила прекрасная гречанка, когда Лучиола замолкла,— быть может, я могу помочь тебе.
— Я — француженка по происхождению,— неуверенно начала певица,— юность моя протекала в столице; меня окружали роскошь и блеск, но я никогда не была счастлива. Отец не заботился обо мне: занятый финансовыми операциями, он не обращал внимания на семью, мать моя, жаловаться на которую я не могу,— была не счастливее меня; она не любила меня, может быть потому, что не любила моего отца, и поэтому искала счастья вне дома, но безуспешно. Я пришла бы в совершенное отчаяние, если бы верная подруга не поддержала меня,— прибавила певица, обнимая Миллу.— Мы обе любили музыку, Искусство заменило мне все, чего мне не доставало, но я не перестала чувствовать ложь и пустоту, окружавшие меня, и я бежала с горечью и отчаянием в сердце! Мне не было еще и двадцати лет, а добродетель, честность и любовь были для меня пустыми словами.