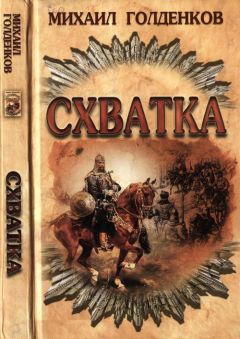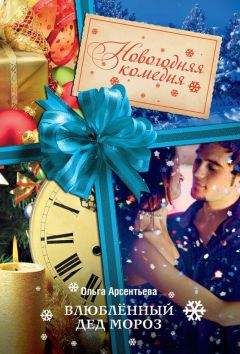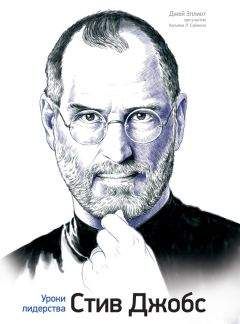— Какого черта! — Михал уже не мог сдержать раздражения и гнева. — Вот к кому я должен идти на помощь! К Кмитичу!
— Поздно уже, — Ян Казимир старался не смотреть в глаза крестнику, — сражение состоится не сегодня-завтра. А вот с Любомирским…
— К чертям собачьим Любомирского! Забудьте Ваше величество про мою хоругвь! Я должен быть рядом с Кмитичем! Не Любомирский грозит потерей городов и огромных территорий Речи Посполитой, а именно Хованский!..
Высокие резные двери вдруг с легким скрипом распахнулись. Михал вскинул голову:
— Какого…
Два королевских жавнера в синих жипунах и низеньких шапках с длинным пером внесли что-то большое, плоское и прямоугольное, покрытое черным шелковым покрывалом. Вроде как упакованная картина.
— Что это? — недоуменно спросил Михал, глядя то на Яна Казимира, то на предмет под черной материей. — Картина? Точно, картина!
— А, — сказал небрежно Ян Казимир, как бы говоря «дело пустяковое», — поставте у стены! Можете идти! — махнул он платком жавнерам. — Я же знаю, коханку, — повернулся король обратно к Михалу, — что ты увлечен живописью, вот и решил подарить тебе кое-что особенное. Вот, полюбуйся.
Михал пусть и был взволнован новостями про Кмитича, и готов был отправиться к нему на вырочку не медля, тем не менее, медленно, словно боясь чего-то, подошел к запакованной картине, аккуратно прислоненной солдатами к стене. Материал ничем не связанный просто обволакивал раму, ниспадая мягкими прямыми складками к полу. Михал потянул за кончик шелка, и тот сам собой поехал вниз, с мягким тихим шелестом упал на пол. Михал стоял, словно громом пораженный. Перед ним была… картина Вильяма Дрозда «Литовский всадник», или же, как ошибочно называл ее Тарковский, «Польский всадник» Рембрандта, или, как еще более ошибочно называл сам Рембрандт, «Огненный всадник». На картине, словно живой, был изображен двадцатилетний пан Кмитич с легкой улыбкой Джаконды, улыбкой неуловимой и загадочной, и так похожей на него, на Кмитича… Нашелся! Нашелся…
Михал почти в ужасе смотрел на картину, не веря своим глазам, не веря, что все это происходит на яву: «Может, я сплю?» Сколько же лет он искал это полотно? Восемь? Девять… Да, нет же! Все десять лет! Почти пол жизни! Михал сглотнул и медленно повернулся в сторону Яна Казимира. Король, явно довольный собой и явно довольный произведенным впечатлением, улыбался, сидя на стуле, закинув ногу за ногу.
— Ну, каково? — спросил он.
— Frappant![3] Феноминально! Где… как Вы ее нашли?
Глава 14 Страхи Кмитича, страхи Хованского
Еще никогда Кмитич не ощущал на себе такой ответственности, как в ночь на 15 июня. От немногочисленной хоругви оршанского полковника зависел если не исход всей войны, то, по меньшей мере, исход грядущих переговоров и судьба всего Витебского воеводства, его родной земли! Кмитича умоляет, приказывает сам король! Его заставляет сражаться не только любовь к своей земле, приказ короля, но и шляхетская честь, ибо вызов брошен принципиальным соперником… Этот крест ответственности давил на плечи оршанского князя как никогда, и ему впервые становилось страшно. Страшно и за людей, которыми он командовал, и за собственную жизнь, ибо умирать совсем не хотелось в самом конце войны, до того, как он увидит свою малютку Янину, не подержит ее на руках, не поцелует глаза…
Кмитич тихо ступал между костров, вокруг которых молча сидели его солдаты, всматривался в лица людей, думал о том, что на следующий день их может уже не быть здесь, на грешной земле…
Даже безвыходное положение перед битвой у Кушлико-вых гор три года назад не вызывало столько треволнений, как сейчас. Тогда конфедеративная армия Кмитича и Жаром-ского стояла, казалось бы, между двух гор, между огнем и полымем: между враждебно настроенными королевскими войсками, призванными разоружить его и Жаромского, и московитами Хованского, хищника, жаждущего его, Кмитича, крови. И тем не менее просвет был, была надежда, были шансы… И вот в тех, казалось бы, незавидных условиях оптимизм жил в сердце Кмитича, не покидала уверенность, что все будет хорошо… Сейчас Кмитич не видел помощи, не видел поддержки, не чувствовал оптимизма, не ощущал былой смелости, а лишь видел перед собой выстроившегося для атаки врага, готового прыгнуть на него и впиться зубами в его тело. Впервые Кмитич не желал сражаться, хотел уйти, увести людей, но понимал, что невозможно, нельзя, поздно…
Помощь не шла. Не мота прийти. Потрепаные и измотанные полки Михала Паца расположились между реками Березиной и Днепром, защищая собой дороги на запад. Сам же гетман остановился в Шклове. В Менске сенаторы постановили выдать универсал о сборе посполитого рушения. Кмитичу, впрочем, от всех этих новостей было ни холодно ни жарко. Все это лишь означало, что в ближайшие дни ждать помощи неоткуда. Была еще призрачная надежда на отошедшего от военных дел Бо-гуслава, но его хоругвь по дошедшим расплывчатым сведениям была повязана по рукам и ногам ще-то под Дюнабуршм, выбивая из-под города московские полки. Ну, а задачей Кмитича было не дать Хованскому о ступить и спрятаться за стенами Витебска, чтобы не сорвать восстание, которое ожидалось в городе. Поэтому на плечи оршанского князя наваливалась нелегкая задача: задержать Хованского боем здесь, на берегах Лучесы, к югу от Витебска. И вот если план удастся, то Витебское воеводство спасено! Но у Кмитича на все это лишь пять тысяч солдат две пушки и ограниченное количество пороха, которого хватит на непродолжительный бой… Поэтому Кмитич то и дело повторял всем своим офицерам мушкетеров и жмайтских пехотинцев:
— Дальше тридцати шагов не стрелять, вдогонку не стрелять, без приказа — не стрелять…
Кмитич до последнего надеялся, что к нему прибудет обещанная помощь в виде обоза артиллерии от Александра Полу-бинского. Но… вместо обоза на взмыленной гнедой прискакал курьер. Он сообщил, что подкрепление увязло в боях с превосходящими силами князя Долгорукого.
— Они атакуют каждый день, — сообщал курьер, — с божьей помощью и при наличие пушек и пороха мы их всякий раз добро поджариваем, но сойти с места московцы, тем не менее, нам никак не дают…
«Мой любый друг, — писал Полубинский, — спешу к тебе на помощь, но сейчас не дают беспрестанные атаки Долгорукого. Продержись хотя бы пару суток, милый мой пане! Спешу! Ужасну спешу!..»
«Прощайте пушки!» — в ужасе думал Кмитич. А вот у Хованского было пять пушек, и еще дополнительно подвезли пять тяжелых орудий, видимо, из витебского гарнизона. Эти двадцатифутовые орудия под охраной двух стрельцов, сгрудившись, стояли на берегу Лучесы, и Кмитич хорошо их видел в подзорную трубу. Видел и понимал — эти пушки разнесут его укрепления в пух и прах.