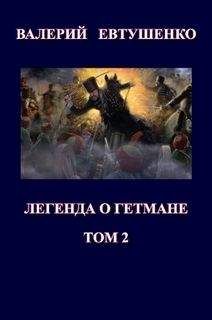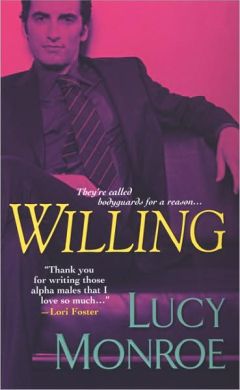В течение короткой июльской ночи под покровом темноты большая часть реестровых казаков сумела переправиться на правый берег Пляшевой, осталось перетащить сюда же артиллерию. После этого оставшиеся в таборе реестровики должны были организовать переход по гатям и всех остальных, кто примкнул к казакам в качестве не только солдат, но и лагерной обслуги. Однако, когда часть пушек оказалась на том берегу, а остальная артиллерия только начала переправу, кто-то из оставшихся в лагере и не посвященных в замысел наказного гетмана, поднял крик, что старшина и реестровики, бросив остальных на произвол судьбы, уходят из табора. Поднялась неизбежная в таких случаях паника. Люди устремились к гатям и мостам, под напором толпы эти хрупкие сооружения не выдержали. Многие из тех, кто переправлялся по ним, оказались в воде и болоте, артиллерия, которую не успели переправить, погрузилась в воду и пошли ко дну. Богун, наблюдая эту картину с противоположного берега, в ярости кусал ус, но помочь гибнущим в болоте людям ничем не мог.
Поляки слышали шум, крики, женские вопли, поднявшиеся на рассвете в казацком таборе, и долгое время не могли понять, что там происходит. Наконец, решительный коронный хорунжий со своими хоругвями подступил к табору и, не встречая сопротивления, ворвался в него. Поняв, что казаки вырвались из уготованной им западни, а в таборе остались в основном безоружные крестьяне, поляки пришли в ярость и началась резня. Вскоре к Конецпольскому присоединились и остальные военачальники, на берег Пляшевой подъехал и сам Ян Казимир.
Часть реестровых казаков, в основном из состава канониров во главе с генеральным обозным Чарнотой, выбравшись из болота, укрепились на небольшом островке, откуда открыли по полякам ружейный огонь. Их было около трехсот человек, но неравный бой продолжался несколько часов. Наконец, когда в живых остался один израненный Чарнота, в изорванной рубахе, с окровавленной саблей в руках, Ян Казимир, пораженный его отвагой, подъехал к краю болота и сказал, что, если он перестанет сопротивляться, то король своим словом обещает ему свободу и полную неприкосновенность. На это старый казак, когда-то бывший запорожским гетманом, предводителем тех запорожцев, что шли на штурм Перекопа, гордо ответил, что ему свобода, дарованная ляхами, не нужна и бросился на копье одного из окруживших его солдат.
Наблюдавшие эту картину с противоположного берега казаки, отдавая честь своим погибшим товарищам, обнажили головы, а затем в скорбном молчании полк за полком двинулись в направлении Староконстантинова.
Когда поле берестецкого сражения осталось далеко позади, Богун, собрав полковников и старшину, заявил, что слагает с себя гетманские полномочия.
— Сейчас, — предложил он, — всем лучше разделиться на небольшие группы под командой куренных атаманов и разойтись в общем направлении к Любару. Так проще будет находить и продовольствие и фураж. Что касается полковников и старшины, то нам надо прежде всего выяснить, где сейчас Хмель. Он нужен войску, как воздух. Кроме него, никто организовать отпор ляхам, если они пойдут на Киев, не сможет. Отыщется гетман, войско собрать будет не трудно.
Возражений никто не высказал, все понимали, что винницкий полковник прав. Хотя большинство из них были уверены, что Хмельницкий бросил их под Берестечком на произвол судьбы и присоединился к хану, опасаясь за свою жизнь, винить его в этом никто не осмелился. Ведь, в конечном итоге, единственное условие короля о капитуляции, на которое осажденные согласились, это как раз и была выдача ляхам запорожского гетмана.
Сейчас, когда завоевания казаков за три года кровопролитных сражений, оказались утраченными, все распри и взаимные претензии должны были быть отброшены в сторону. Ничто так не объединяет, как общий страх, а опасаться было чего — под угрозой оказалось само существования Запорожского Войска.
Какое-то время, Дорошенко, Серко, Верныдуб и еще с десяток сопровождавших их казаков ехали вместе, сделав остановку на ночлег в каком-то неглубоком байраке. С рассветом они продолжили путь, но вдруг, когда солнце поднялось к зениту, Серко, всю дорогу хранивший молчание, остановил Люцифера и сказал Дорошенко:
— Что ж Петро, настало время нам с тобой прощаться.
Дорошенко также натянул поводья, остановив своего коня, и с удивлением посмотрел на побратима.
Тот, без слов поняв его взгляд, продолжал:
— Твой путь отсюда лежит на Чигирин, а мой на Сечь.
— Как же так, — не понял молодой полковник, — ты отказываешься от продолжения борьбы с ляхами? Ведь гетман непременно отыщется и продолжит войну. Пусть мы проиграли под Берестечком, но есть у нас еще самопалы за плечами и сабля на боку.
— Ты, Петро, прав, — с необычной мягкостью ответил Серко. — Конечно, проиграть одно сражение, еще не значит проиграть всю военную кампанию. Тут дело в другом…
Он помолчал немного, глядя в глаза Дорошенко, затем продолжил:
— Я повидал немало запорожских гетманов, начиная с твоего деда. Были среди них талантливые военачальники, были и не очень. Одни были удачливые, другим везло меньше. Кто-то был умнее, кто-то нет. Но все они никогда не отделяли себя от казацкой массы. Так повелось еще с времен Байды Вишневецкого, запорожский гетман — лишь первый среди равных.
— Никто из них, — голос полковника стал жестче, — не окружал себя трехтысячной татарской гвардией, никто не опасался своих же братьев по оружию, тем более товарищей. Конечно, не раз казаки выдавали гетманов врагам, некоторых за ошибки даже убивали. Что ж, в этом и состоит суровая правда законов товарищества: если гетман властен над жизнью своих воинов, то и они имеют такое же право строго спросить его за допущенные просчеты. На этом и основана запорожская демократия — власть должна быть ответственна за свои поступки.
Серко умолк, достал из широких алых шаровар резную трубку, набил ее из вышитого кисета, высек огонь кресалом, раздув трут, затянулся ароматным дымом. Петро наблюдал эту сцену молча, не совсем понимая, к чему клонит его старший товарищ.
— Гетман по традиции избирался ежегодно всей Сечью на общей раде. Хмель уже три года не выпускает булаву из рук и, судя по всему, даже для проформы не созывает раду, решая все вопросы только со старшиной. Он превратился в тирана, которому все позволено, басурманы для него стали дороже нас с тобой. Нас он боится, потому и льнет к хану.
— Но разве у него не было оснований опасаться выдачи под Берестечком? — с горечью спросил Петро. — Разве кто-то возвысил голос против общего мнения отдать гетмана на растерзание ляхам?