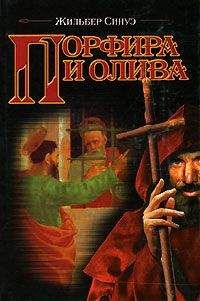Все разом объяснилось. И ее недомолвки, и то, как она постоянно откладывала срок принятия таинства, и предлоги, на которые ссылалась, уклоняясь от вступления в их братство.
— Если начистоту, — заявил повар, — ты не имеешь права злиться, что он уступил этой женщине. Кроме всего прочего, разве не ты сама косвенно содействовала их сближению? Да и попросту говоря, был ли у него выбор?
Вместо ответа Флавия откинула голову назад так, что взметнулась волна ее золотых волос.
Калликст растянулся на своем ложе, закинув руки за голову. Он был один в чердачной каморке, милостиво предоставленной ему в качестве жилья. Солнце давно уж взошло, а ему и дела нет. Маллия обещала походатайствовать перед Карпофором, чтобы его избавили от работы до тех пор, пока он полностью не выздоровеет. А он знал, какое влияние это испорченное дитя имеет на своего дядю, который — что тоже козырь, причем не пустяковый, — был вместе с тем ее приемным отцом. Можно было ни на мгновение не сомневаться, что своей цели она достигнет.
Маллия... Приходилось признать, что ночь, которую он разделил с ней, была самой упоительной из всех, какие он когда-либо проводил с женщинами. Ему вспомнилось тоненькое обнаженное тело его госпожи, белое, как слоновая кость, ее груди, чьи острые соски терлись об его кожу. В каждом ее движении была искушенность, уж она-то знала толк в утехах плоти. Она, стоя, обвивалась вокруг него, в ней проснулись неожиданная сила и все сладострастие мира. Когда он овладел ею тут же, на полу комнаты, она кричала от наслаждения. Их бурные объятия следовали одно за другим, всякий раз с обновленной страстью, подчас заставляя его вздрагивать от боли, когда ногти любовницы впивались ему в спину, где еще не зажили раны, нанесенные кнутом.
Как она не походила на уличных девок, так называемых волчиц, и служаночек, которыми ему случалось обладать прежде! От их мимолетной близости в памяти оставалось впечатление какого-то жалкого ритуала, в конечном счете, не без привкуса брезгливости. Изведав же ласки Маллии, он осознал, что любовь может быть искусством, сладостным единоборством и в той же мере наукой. Так что когда, наконец, молодая женщина, насытившись страстью, без сил прильнула к его лоснящемуся от пота телу, он вдруг услышал как бы со стороны свой же голос:
— Во всей Империи разве только Марсия, фаворитка императора, могла бы тебя превзойти...
Он открыл глаза. Чья-то рука отодвинула штору, и ослепительные лучи солнца затопили комнату. Внезапно против света прорисовался силуэт Флавии.
— Ты здесь? В этот час?
Девушка легким шагом пересекла комнату и села рядом с ним, прямо на пол.
Он недоверчиво разглядывал ее. Опрятная одежда, простая, изящная прическа. И все же некое свечение, исходившее от ее лица, след сурьмы у глаз — он не помнил, чтобы она когда-нибудь их подводила, — короче, было в ней что-то, что его встревожило.
— Возможно, я ошибаюсь, но мне сдается, что ты не выспалась... Небось, присутствовала на одном из ваших собраний.
— Я приняла важное решение. Попросила Карвилия походатайствовать за меня перед нашими братьями: я буду креститься.
Он всмотрелся в ее черты, охваченный необъяснимым смятением. Она выглядела такой юной, хрупкой и в то же время такой непреклонной! Калликст снова откинулся на спину, постаравшись не сморщиться от боли.
— Итак, ты становишься христианкой...
— Да. Но прошу тебя... постарайся понять, ведь я же... — она схватила его за руку, будто хотела удержать.
— Как ты можешь?..
— Калликст...
Она хотела продолжать, но он не дал ей на это времени. Сухо, отрывисто обронил:
— Я приду. Не хотелось бы пропустить эту гулянку...
Все четверо быстрым шагом шли по мощеной рядами каменных плит Аппиевой дороге. Калликст шагал позади, вслед за Карвилием, Эмилией и Флавией. Солнце, потонувшее в золотистой сияющей дымке вдали за болотами, по временам зажигало пробившимся сквозь туман лучом уже пожелтевшую листву осенних деревьев на обочинах дороги.
Маленькую группу все время обгоняли катящие в сторону Рима повозки с провизией. Да и сами они в своих скромных нарядах походили на крестьян, которые подались в город с целью продать что-нибудь выращенное либо изготовленное своими руками.
Часов около тринадцати[26] взглядам путников открылся дом, стоящий на краю дороги. Стены его, массивные и суровые, были сложены из охрового кирпича, а кровля — из желобчатой черепицы. В фасаде были вырублены только парадный вход да несколько узких высоких окон. Едва успев войти в атриум, Калликст насторожился, изумленный: человек, вышедший им открыть, оказался не кем иным, как Эфесием, в прошлом управителем покойного сенатора. Он остался верен своей обычной невозмутимости, но фракийцу все-таки почудилось, что во взгляде старика сверкнула насмешка.
— Похоже, со времени нашей последней встречи характер у тебя лучше не стал. Тем не менее, мы должны поблагодарить тебя за спасение нашего старого друга Карвилия.
— Но как могло получиться, что...
— Что я здесь? Очень просто: не захотел расстаться со своими братьями-рабами. И вот с помощью даяний щедрых благотворителей я смог приобрести это жилище, где все мы собираемся в День Господа Нашего.
Калликст не нашелся, что ответить, несколько удивленный и вместе с тем раздосадованный столь очевидным доказательством верности, какой никогда бы не предположил в человеке, которого привык считать жестким и холодным.
Более не медля, Эфесий повел их в триклиний, где при шатком свете нескольких десятков масляных ламп стоя ждала толпа собравшихся. Если фракийцу и показалось, что некоторые лица ему знакомы, то большинство он, несомненно, видел впервые. Его друзей встретили с видимой радостью, что до пего самого, он, оставшись стоять у порога, поневоле испытал ощущение покинутости. Стараясь утешиться, он напомнил себе, что его присутствие здесь во всех смыслах неуместно: пускать сюда язычников иначе, чем для их крещения, было не в обычае, чтобы для него сделали исключение, потребовались горячие настояния Флавии и Карвилия.
Когда же началась церемония, его ждало новое потрясение: он узнал человека, одетого в длинную белую мантию, который руководил действом, — то был Ипполит! Под внимательными взглядами собравшихся сын Эфесия стал разворачивать свитки пергамента. Флавия между тем вместе с группой каких-то мужчин, женщин и детей встала в отдалении.
Этим своим пискливым голосом, который Калликст не спутал бы ни с чьим другим, Ипполит по-гречески прочел несколько текстов, казалось, не имевших между собой ничего общего, и провозгласил: