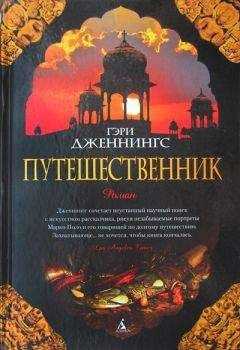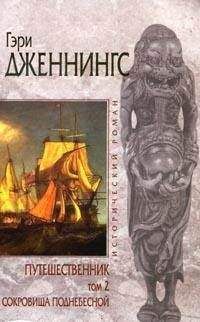Я так и сделал и пробормотал:
— Однажды суровой зимой, в месте под названием Урумку, из замерзшей Гоби появились дикари, которые ужасно напугали меня, потому что у них были большие мерцающие глаза из меди. Когда дикари подошли ближе, я увидел, что они все носили такие же приспособления, как это. Своего рода маску домино, сделанную из тонкой меди, с множеством маленьких отверстий. Дикари объяснили, что человек не может хорошо видеть через это, но зато приспособление защищает их глаза от слепящего сияния снега.
— Да-да, — нетерпеливо произнес Абано. — Ты не один раз рассказывал мне об этих людях с медными глазами. Но что ты думаешь об occhiale? Разве ты не лучше видишь?
— Лучше, — ответил я без особого энтузиазма, потому что рассмотрел в зеркале собственное отражение. — Я замечаю то, чего не замечал прежде. Ты mèdego, Абано. Скажи, медицина может объяснить, почему я теряю волосы на голове и одновременно на кончике носа у меня растет щетина?
Все еще нетерпеливо он сказал:
— Разумный медицинский термин для этого «старость». Ну а что же occhiale? Я могу приказать, чтобы для тебя изготовили специальное приспособление. Простое или богато украшенное. Скажи, ты предпочитаешь носить его в руке или крепить вокруг головы? Можно украсить occhiale драгоценностями, сделать оправу из дерева или тисненой кожи…
— Спасибо тебе, старый друг, но думаю, что вполне обойдусь без этого изобретения, — сказал я, откладывая зеркало и возвращая ему occhiale. — Я много чего видел в жизни. Но сейчас я не хочу видеть признаки собственного разложения.
Только сейчас я вспомнил, Луиджи, что сегодня ведь двенадцатое сентября. Мой день рождения. И мне уже больше не шестьдесят пятый год. Дрожащей походкой я незримо перешел невидимую, но четкую границу и ступил в шестьдесят шестой год жизни. Осознание этого на какой-то миг согнуло меня, но я тут же распрямился во весь рост, не обращая внимания на приступ боли в пояснице, и расправил плечи. Рассудив, что не стоит купаться в слезливой жалости к себе, я, твердо решив взбодриться, легким шагом вошел в кухню, где суетилась наша кухарка, и заговорил:
— Настасия, я расскажу тебе одну занимательную и поучительную вещь. Примерно в это время, каждый год, в Китае и Манзи ханьский народ празднует то, что они называют праздником Лунной Лепешки. Это теплый и милый семейный праздник, ничего грандиозного. Люди просто собираются вместе и наслаждаются тем, что поедают так называемые Лунные Лепешки. Это маленькие круглые мучные изделия, очень сдобные и вкусные. Я расскажу тебе рецепт. Может, ты сделаешь одолжение и приготовишь немного, а потом мы позовем донну и дамин и устроим праздник, как в Китае. Возьми орехи, финики, корицу…
Меня тут же выставили из кухни, и я отправился слоняться по дому в поисках Донаты. Я отыскал жену в гардеробной, где она занималась шитьем, и зарычал:
— Меня только что выгнала из моей собственной кухни моя собственная кухарка!
Доната, даже не оторвав от шитья глаз, сказала с легким упреком:
— Ты снова докучал Нате?
— Докучал ей, как же! Разве мы не наняли ее в прислуги? У этой женщины хватает бесстыдства жаловаться, что она устала от моих россказней о роскошных яствах, которыми я наслаждался за границей, и что больше она не желает слышать об этом ни слова! Che braga! Разве так должны слуги разговаривать со своим хозяином?
Доната сочувственно хмыкнула. Я какое-то время тяжелыми шагами мерил комнату, раздраженно пиная вещи, которые попадались мне на пути. Затем снова заговорил с печалью в голосе:
— Наши слуги, догаресса, даже мои приятели на Риалто — кажется, никто больше ничем не интересуется. Людям нравится прозябать в покое и невежестве. Ничто новое и необычное их не привлекает. Имей в виду, Доната, мне нет дела до остальных, но мои собственные дочери! Мои собственные дочери тяжело вздыхают, барабанят пальцами и смотрят в окно, когда я пытаюсь рассказать им какую-нибудь поучительную историю, из которой они могут извлечь пользу. Ты случайно не поощряешь это их неуважение к главе семьи? Если да, то это достойно порицания. Вот уж воистину — нет пророка в своем отечестве!
Слушая мою тираду, Доната улыбалась и спокойно поигрывала иголкой, а когда я наконец замолчал, выбившись из сил, сказала:
— Девочки молоды. А молодые часто находят нас, стариков, утомительными.
Я еще немного побродил по комнате, пока дыхание мое не перестало быть хриплым. А затем заявил:
— Нас, стариков, говоришь? Ну ладно, я действительно стар, мне уже много лет. Но ведь ты значительно моложе меня, Доната.
— Все стареют, — сказала она спокойно.
— Тебе сейчас столько же лет, сколько было мне в день нашей свадьбы. Разве я был старым тогда?
— Ты был в расцвете лет. Крепкий и красивый. Но возраст женщины отличается от возраста мужчины.
— Нет, если только женщины сами этого не хотят. Ты желала побыстрее миновать детородный возраст. А ведь можно было поступить иначе. Много лет назад я сказал тебе, что знаю простые способы, как избежать…
— Такие вещи недостойны того, чтобы о них говорил язык христианина и чтобы им внимали уши христианки. Я не желаю слушать это теперь даже больше, чем прежде.
— Если бы ты выслушала это тогда, — обвиняющим тоном заявил я, — ты не была бы сейчас «Осенним веером».
— Чем? — спросила она, наконец подняв глаза от шитья и посмотрев на меня с интересом.
— Так хань называют женщину, которая миновала пору своей привлекательности. Очень образное выражение. Понимаешь, осенью воздух прохладный и уже нет нужды в веере. Осенний веер становится бесполезным и ненужным предметом. Точно так же и женщина, которая перестала быть женственной, как это намеренно сделала ты, с единственной целью — больше не иметь детей…
— Все эти годы, — перебила она меня совершенно спокойно, — все эти годы, как ты думаешь, почему я так поступала?
Я остановился с раскрытым ртом. А Доната положила свое шитье на обтянутые черным бомбазином колени, сложила поверх него желтоватые руки, посмотрела на меня поблекшими глазами, которые когда-то были ярко-голубыми, и сказала:
— Я перестала быть женственной тогда, когда поняла, что уже больше не могу обманывать себя. Когда я устала притворяться перед самой собой, что ты любишь меня.
Я изумленно моргнул, не в силах поверить, и с трудом смог сказать:
— Доната, разве я не был нежен и заботлив? Разве я обманывал тебя? Разве я не был тебе хорошим мужем?
— Вот. Даже теперь ты не можешь произнести этого слова.
— Я думал, что это подразумевалось само собой. Прости. Но, честное слово, Доната, я все же любил тебя.