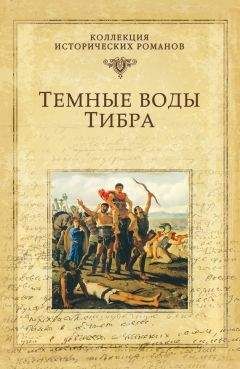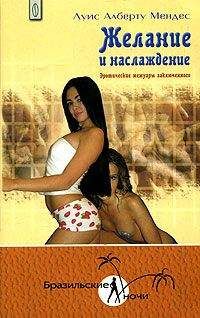– Нет.
– Мужской костюм ценой в сто луидоров. Кто заплатил за это, неужели Марианна? Она не отвечает. Я одеваюсь, выхожу. Но, не зная коридоров, заблудилась. Встречаю набожную надсмотрщицу, которая делает вид, что не видит меня. В карманах костюма оказались деньги. Я подхожу к дверям, их отворяют. И кого же я вижу, подойдя к берегу Сены? Марианну, которая ждет меня, чтобы сопровождать.
– Неужели, графиня, вы думали, что у вас не было друзей?
– Извините, и то, что произошло, есть доказательство противного. Наконец, я еду в Лондон и жду здесь госпожу де Полиньяк.
– Госпожу де Полиньяк?
– Да, ее. Мы увидимся завтра.
– Каким образом компаньонка королевы могла оставить Париж?
– Для здоровья, она едет на воды.
– Для чего ей надо увидеться с вами?
– Она везет мне двести тысяч ливров. Меня предупредил об этом барон де Бретель. Вы знаете почерк принцессы Ламбаль? Читайте.
– Да, это действительно ее каракули. Тут говорится о бумагах, которые вы должны отдать взамен денег.
– И это причина моего посещения, – сказала она. – Угодно ли вам заплатить миллион за те бумаги, за которые мне предлагают двести тысяч ливров?
– Мне!.. Для чего?
– Для ваших друзей.
– Мне не дано никакого позволения, и, кроме того, хотелось бы посмотреть на двести тысяч ливров.
– Приходите завтра, вы их увидите.
И действительно, я их увидел. После отъезда герцогини Полиньяк графиня показала их мне на своем письменном столе. Об этом можно думать что угодно. У женщин всегда есть задние мысли. Когда я хотел уйти, Жанна Валуа остановила меня. Она собиралась что-то сказать.
Заставив меня поклясться, что я знаменитый доктор, она, краснея, разделась до пояса. Этот демон был скромен, как невинная девушка. Она просила меня ни больше ни меньше, как уничтожить ужасное клеймо, которым ее отметили.
Я долго глядел на него. Ее грудь приняла прежнюю форму. Это было в одно и то же время ужасно и прелестно.
Я поцеловал клеймо и сказал:
– С этим нельзя сделать ничего более.
Два года спустя Жанна Валуа выбросилась из окна. Одна из ее лилий стесняла ее… Легко угадать, какая.
КНИГА ТРЕТЬЯ
РИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Глава I,
в которой я решаюсь сделать глупость
– Жозеф, – сказала мне однажды Лоренца, – твоя Англия погубит меня. Ее туманы давят. Я хочу уехать.
– Как хочешь, моя дорогая, куда же мы отправимся? Мир полон предрассудков. В прошлом году я хотел разбить нашу палатку в Турине; король просил меня оставить Пьемонт в течение недели.
– Я нисколько не дорожу Пьемонтом.
– И я также. Но когда мы с тобою скрылись в Ревередо, находящийся под властью Австрии, император Иосиф II остался этим недоволен и прислал сказать, что я ему мешаю.
– Что же, вернемся во Францию.
– У де Лоне и Шенона длинные руки. Я слишком много говорил о Бастилии.
– Может быть, в Палермо?
– У меня остались там неприятные друзья.
– Ну, так в Рим. Мне хотелось бы знать, что случилось с моей матерью и ее торговлей и попал ли Лоренцо на галеры.
– Разве время думать об этом? Не значит ли это прямо броситься в пасть католического волка?
– Однако, Жозеф, мы люди не без религии.
– Согласен, но Рим такое место, где надо быть очень религиозным. Подумай о папской булле, осуждающей масонов и приговаривающей их к повешению.
– Да… – сказала Лоренца.
– Затем следующая булла, изданная всего тридцать лет назад, уничтожает повешение…
– Ну, вот видишь…
– Но она заменяет его костром, как более очищающим и более согласующимся с христианскими обычаями.
– Трус! – воскликнула Лоренца. – В Ватикане нам желают добра. Епископ Тридцати говорил мне третьего Дня у леди Розберри, что в Ватикане к нам очень расположены.
– Этот епископ очень любезен.
– Он утверждает, что если бы ты согласился принести покаяние, тебя с восторгом бы приняли там.
– В этом надо быть очень уверенным, – отвечал я.
– Князь сам скажет тебе это.
Действительно, он подтвердил сказанное. Этот князь-епископ был человек не злой, отпускавший какие угодно грехи. Некоторое время я считал его другом дома. Он особенно интересовался моими приключениями и масонством, учение которого я ему объяснял. Но, со своей стороны, был очень привязан к церкви и нисколько не сожалел, что она порицает новые порядки, говоря, что нет никакой надобности делать нововведения. Я не знал, что отвечать на его слова.
– Все это настоящее детство, дорогой граф, – говорил он мне. – Папа увидит вас с удовольствием. Знаете ли вы, что он простил вашего бывшего приятеля князя де Роган и объявил, что он может быть папою?
– Неужели Людовик будет папой? – вскричал я.
– Во всяком случае, он может стать им.
– В таком случае, едем, – отвечал я. Лоренца была в восторге от моего решения.
Мы приехали в Рим в июле 1789 года и после краткого пребывания в меблированном отеле переехали во дворец Фарнези, где я был арестован 21 марта 1790 года, в праздник Святого Иоанна Евангелиста.
Глава II
Может быть, шарлатан; наверное – пророк
Сомневаюсь, чтобы когда-нибудь видели такой странный процесс, как мой: меня заставляли повторять катехизис, который я немного забыл.
Что касается меня, все мои мысли в это время были о Лоренце и ее любви, которой я был лишен. То, что для меня было хуже всего, заставило бы вынести оправдательный приговор, если бы суд был менее предубежден – я подразумеваю таинственные качества, удивлявшие меня самого, и наличие которых констатировал тысячу раз. Без сомнения, я был обязан ими особому покровительству Божию, но инквизиторы решили во что бы то ни стало найти в этом деле дьявола. Что до масонства, то булла выражалась очень ясно: мне грозила виселица. Но что более всего возмущало орду попов – так это письмо к французскому народу, напечатанное мною в июне 1786 года, где речь шла об ужасах Бастилии и предсказывалось ее падение.
Таково было мое действительное преступление. Меня осудили за то, что я говорил истину, поэтому я, не без некоторого беспокойства, ожидал исхода процесса.
Ужаснее всего было то, что мне каждый день приносила признания, подписанные моей дорогой Лоренцой, обвиняющие в тысяче обманов и подлостей. Инквизиторы принуждали любовь к измене.
Среди мрака, которым я был окружен, для меня был только один ясный день: тот, когда я увидал после стольких лет разлуки появившуюся в качестве свидетельницы мою дорогую кузину Эмилию, которая была по-прежнему хороша. Она послала мне поцелуй, прижав руку к сердцу, и заявила с улыбкой на устах, что я был наименее злым из всех мужчин. Ее слова были для меня солнечным лучом, какой подкрепил Даниила во рву со львами. Но мои львы были недостойными лисицами. Они почувствовали, что добыча вырывается у них из рук, а взгляд этого ангела, которого я любил, разбудил во мне мужество и дал надежду на жизнь. Меня не решились убить.