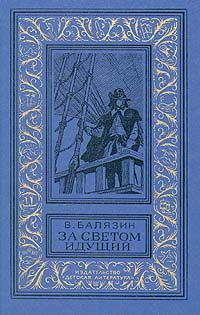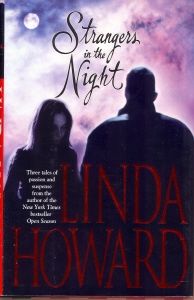Государь тяжко дышал, и оттого тело его, тучное и обессилевшее, слабо колыхалось под легким платом, коим прикрыли умирающего из-за великой жары и духоты. Михаил Федорович хотел сказать собравшимся нечто важное, но мысли разбегались в разные стороны, и оставалось только одно: жалость к себе, что ровно года не дожил до пятидесяти, а вот батюшка Федор Никитич скончался семидесяти годов, да и матушка Ксения Ивановна преставилась всего не то семь, не то восемь лет назад. А вот ему, рабу божьему Михаилу, не дал господь долгого века — по грехам его…
А кроме жалости, мучила царя тревога: на кого оставляет царство? На этого младеня, что плачет безудержно, содрогаясь рыхлым, не по летам тучным телом?
И, глядя на единственного сына, коему оставлял он все города и веси, леса и поля, реки и озера, бояр и дворян, купчишек и мужиков великого и славного Российского царства, что раскинулось на полсвета от чухонских болот до Пенжинского моря и от Студеного окияна до Хвалынского моря, подумал царь: «Очаруют, изведут, а паче того явится новый Гришка Отрепьев и отымет у Алеши все, что оставляю». Ибо с малых лет — как помнил себя — боялся Михаил Федорович дурного глаза, волшебного слова, наговоров да чародейства. Еще маленьким слышал он, как мягко ворочался под полом дедушко-домовой, как шушукались в темных углах дворцовых комнат серые бабы — кикиморы. Уже юношей — на соколиной охоте — сам видел лешего, зеленого, обросшего рыжей бородой. Мелькнул леший на краю чащобы, захохотал филином и сгинул с глаз. Кинулись за лесным чудом ловчие, загонщики, сокольничьи да и остановились на опушке, у буреломов, — кони всхрапывали, гончие псы визжали и прижимались к ногам лошадей, но в лес за лешаком не шли. На божьих тварей глядя, покричали да посвистели охотники, проехали у края леса да и повернули восвояси… А уж скольких ведьм стащили по его приказу в пыточную избу — того и не счесть…
Однако более колдовства боялся Михаил Федорович подыменщиков — воров, подыскивавших под ним московский трон, на котором сидел он сам-первой. Не был сей трон для него наследственным, прародительским, и потому всякий боярин ли, князь ли, который хоть как-то к прежним царским родам прикасался, был для Михаила Федоровича ох как опасен.
А еще более было воровских шпыней — мужиков, казачишек, гультяев без роду и племени, что нагло влыгались в чужое имя и объявляли себя Рюриковичами.
Немногие годы прошли, как изловили и казнили псковского вора Сидорку, объявившего себя новым — третьим уже — царевичем Димитрием Ивановичем. Поймали двух воров в Астрахани, выдававших себя за внуков царя Ивана Васильевича, якобы происходивших от старшего сына Грозного — Ивана. И многие людишки в то крепко уверовали, хотя всему народу было известно, что царевича Ивана отец убил железным посохом и никаких детей у убиенного не осталось.
А от царя Федора Ивановича — хилого и немощного недоумка — осталась скитаться по степным юртам добрая дюжина смутьянов, вводивших в сумление царским происхождением доверчивых казаков и инородцев.
И уж совсем недавно в Самборе, у Карпатских гор, объявился еще один подыменщик — сын царя Василия Шуйского, Семен. Как после всего этого оставить младеня Алешу на престоле? Одна надежа — собинный друг Борис Иванович Морозов, муж в государственных делах велемудрый и рукою твердый.
Михаил Федорович уже как сквозь пелену поглядел на Бориса Ивановича. Морозов стоял прямо, глядел сурово. «Слава тебе господи, — подумал умирающий, — хоть один человек возле меня оказался, на кого могу и жену с детьми и державу оставить».
Собрав последние силы, сложил государь персты, благословляя сына Алешу на царство. Деревянными, стылыми губами прошептал:
— Борис Иванович, тебе сына приказываю, служи ему, как мне служил.
Борис Иванович пал на колени, ткнулся носом в бессильно упавшую руку государя.
Патриарх Иосиф, неслышно ступая, подошел к постели исповедать и причастить умирающего.
Новый царь тотчас же разослал во все государства гонцов и послов, чтобы известить о кончине отца и о собственном благополучном восшествии на престол.
И помчались послы и гонцы: в Швецию — к королеве Христине, в Польшу — к королю Владиславу, в Англию — к королю Карлу, во Францию — к Людовику, в Молдавскую землю — к господарю Василию, в Турцию — к султану Ибрагиму.
К Ибрагиму велено было ехать стольнику Степану Телепневу да дьяку Алферию Кузовлеву.
Телепнев и Кузовлев третью неделю сидели на худом подворье в крымском городе Кафе, не зная толком, кто они — послы или пленники? Татары никого к ним не пускали и со двора ни им самим, ни их слугам ходить не велели. Корм послам давали скудный, вина и вовсе не давали. От таких дел, от бескормицы и умаления чести большой государев посол Степан Васильевич Телепнев почернел лицом и лишился голоса. Страшила неизвестность, посоветоваться было не с кем. Дьяк Алферий, до того три года просидевший в Поместном приказе, в бусурманской земле отродясь не бывал и посольских обычаев не знал совсем.
Да и вообще с самого начала все было худо в этом треклятом посольстве. В Бахчисарае не только хана — визиря не видели. Продержали послов для укора, без всякой надобности возле ханской ставки два месяца. Бесчестили и пугали, обделяли всем, чем можно, даже воды и той вдоволь не давали. Телепнев понимал, что, пока крымский хан не снесется с султаном, дороги послам не будет. Так оно и вышло. Через два месяца вывели татары послов во двор, посадили на коней и, окружив, будто полоняников, погнали на юг — в Кафу. В Кафе снова поместили на худом дворе и велели ждать фелюгу, какая пошла бы через Русское море в Царьград.
Послы томились, не зная, что будет дальше. Хотели одного — скорее добраться до места. Ехали они к султану не только с вестью о кончине Михаила Федоровича и восшествии на престол Алексея Михайловича, но и с жалобой на крымского хана, султанского подручника, коий в минувшие 7152-й и 7153-й от сотворения мира годы набегал из своего крымского улуса на украины Московского государства и, поруша шерть, сиречь договоры, воевал грады и веси многими людьми безо всякия пощады.
За долгую дорогу да за докучливое двухмесячное сидение в Бахчисарае обо всем послы друг с другом переговорили и жили в Кафе, как в дурном сне, — маялись пуще прежнего.
Однажды близко к полуночи стукнули в дверь тайным, условным стуком: сперва один раз, потом быстро два и, чуть пождав, снова один.
За день послы высыпались до помутнения разума, ночами ворочались без сна и потому оба враз встрепенулись и Кузовлев спросил:
— Чул?