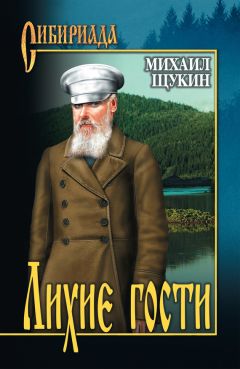Захар Евграфович в полном отчаянии метался по номеру и уже решил для себя, что завтра он выйдет на проспект. Но вечером появился Матвей и доложил, что Цезарь и с ним еще какие-то люди, числом пятеро, обитают на городских выселках, где осенью случился пожар и уцелел от огня только один-единственный дом, стоящий у самого краешка соснового бора.
– Вот со стороны бора и подберемся, возьмем тепленькими.
– Подожди, подожди, – перебил его Агапов, – мы что, штурмом его брать будем, дом этот? Сначала выяснить надо…
– Воля ваша, – пожал плечами Матвей, – можете выяснять. Только я вам доложу, каждый лишний час, пока мы тут разговоры толкуем, может боком выйти. Высокого полета этот Цезарь по разбойному делу, я знаю, что говорю. Как ни таился, а земля слухом полнится. Появился он здесь недавно, замашки – господские, одевается чисто, поэтому его никто из местных лихих людишек и не знает. Но подручных себе набрал – ухорезы! Голыми руками не взять.
Захар Евграфович снова вспомнил о полиции, но Матвей лишь упрямо мотнул головой, словно хотел отогнать надоедливую муху, и уперся:
– Не будет от них толку, у них своя забота – шайку накрыть. Покрошат в капусту, кто попадется, и голова не болит. А вам-то иное требуется – сестру выручить. И чего я вас уговариваю, господин Луканин, полиция так полиция… У меня особой охоты не имеется голову подставлять, хотя и деньги требуются… Отдайте долю, что мы Цезаря этого нашли, а дальше как знаете, хоть воинскую команду вызывайте…
Захар Евграфович махнул рукой и решил: положиться на дубовских молодцев, а в полицию не заявлять.
Под утро в дверь номера раздался едва различимый, вкрадчивый стук, и Матвей тихо позвал:
– Господин Луканин, просыпайтесь скорей, не мешкайте…
Через несколько минут они уже мчались на лихом извозчике по непроглядно темным осенним улицам губернского города – на выселки. Захар Евграфович стискивал в кармане пальто рукоятку револьвера и даже ни о чем не спрашивал Матвея, а тот молчал и лишь тыкал время от времени кулаком в широкую спину извозчика, без слов поторапливая его. Впрочем, можно было не торопить: конь, запряженный в легкую коляску, шел в полный мах. Только грязь летела ошметьями во все стороны.
Вот и выселки. На краю бора, едва различимый в темноте, стоял дом под двускатной крышей, в одном из его окон маячил мутный желтый огонек.
– Что за черт! – Матвей на ходу выпрыгнул из коляски, Захар Евграфович – следом за ним. Они подбежали к щелястому дощатому забору и укрылись за ним. Оглядевшись, Матвей тихонько свистнул, и ему сразу, так же тихо и коротко, отозвались.
– Жди здесь. Если из дома кто выскочит – пали, не раздумывая, – Матвей неслышно соскользнул в темноту.
Захар Евграфович щекой прижимался к влажной доске забора и до рези в глазах всматривался в темный дом, обозначенный только хилым желтоватым огоньком. Вслушивался. Но тишина висела мертвая, и никакого шевеления в темноте не различалось. Рука, которой он изо всей силы стискивал револьвер, наливалась тяжестью и немела.
И вдруг хлопнула дверь, неясные тени метнулись вдоль стены. Захар Евграфович, вскинув револьвер, выстрелил, и в ответ ему почти мгновенно вспыхнули от угла дома две огненные точки, и пуля расхлестнула влажную доску забора, в лицо брызнуло мокретью и мелкими щепками. Захар Евграфович присел, протирая глаза, и вскинулся: от дома накатывал на него глухой и частый стук конских копыт. Быстро приближаясь и все яснее проявляясь в темноте, летели прямо на него три всадника. Все еще протирая глаза, он наугад выстрелил, и в тот же момент сильный удар снес его с ног, вышиб из сознания и швырнул навзничь на холодную, влажную землю.
Он очнулся, когда сильные руки встряхнули его за плечи, подтащили к забору и спиной прислонили к доскам.
– Живой, нет? – он узнал голос Матвея, с трудом открыл глаза, ощупал разбитую, липкую от крови голову.
– Живой, господин Луканин? – снова спросил Матвей.
– Если шевелюсь – значит, живой. Где Ксения?
– В доме. Пошли. Держись за меня.
Окна теперь были ярко освещены, и на земле четко обозначались кресты рам. В доме горели лампы, и свет их после темноты резал глаза. Матвей сдернул с гвоздя мятую тряпку, наспех перемотал голову Захару Евграфовичу и, когда тот утвердился на ногах, стер с лица кровь и осознанно огляделся, то увидел, что в большой и пустой комнате с голым столом посередине сидели на полу два связанных человека – спина к спине. Над ними возвышался, расставив ноги, один из дубовских молодцев и, лениво наклоняясь, бил кулаком то одного, то другого по голове, будто по столу стучал. Связанные никли под кулаком все ниже и молчали.
– Видишь, господин Луканин, ничего не желают говорить, молчат, заразы. Но у меня скажут, никуда не денутся, – Матвей плюнул на пол и длинно, заковыристо выругался. – А Цезарь и еще двое с ним, проворные, ушли. Чутье у него, как у волчары. Это он, господин Луканин, шашкой тебя приголубил; хорошо, что на скаку не успел перехватить ее, как следует, плашмя ударил, а если бы ухватил да острием…
Дальше Матвей принялся рассказывать, что, разыскав дом, они первым делом убедились в точности, что Ксения здесь. Выглядели все подходы и в дом проникли через узкий лаз в крыше, в самый сонный, предутренний час, нашли крохотную комнатенку, где была Ксения, и поначалу думали дождаться рассвета, чтобы вывести ее тихо из дома, а после уже вязать Цезаря и его людей. В темноте боялись что-нибудь опрокинуть и нарушить весь план. Но план нарушил сам Цезарь. Он проснулся, словно учуял, и зажег маленький светильник, свет которого и увидели Матвей с Захаром Евграфовичем, когда подъехали к дому. Тут уж не до раздумий и не до плана стало, тут все просто: кто ловчее и проворней… Рассказывал Матвей подробно, горделиво, явно желая показать, что опасное дело удалось совершить с большими трудами. Но Захар Евграфович его почти не слышал, пытаясь пересилить тугой гул в голове и удержаться на ногах. Справился, уперся рукой в стену и перебил Матвея:
– Где Ксения? Веди…
Но Ксения вышла сама, появившись в дверном проеме, половину которого закрывала грязная тряпка. Выставив перед собой руки, словно слепая, она медленно переступала по полу, и ее остановившиеся глаза, казалось, ничего не видели. Сквозь рваные лохмотья просвечивало тело; грязные, скатавшиеся волосы висели сосульками, а на голых вытянутых руках краснели большие, кровоточащие пятна с лопнувшей кожей, лохмотьями висевшей по краям – словно крутым кипятком обварили.
– Ксюша!
Даже головы не повернула на голос брата, даже не повела остановившимися глазами; как шла, шаркая по полу босыми ногами, так и прошла мимо, не опуская вытянутых рук, и только у самого порога, вздохнув, упала, будто ее подрезали…