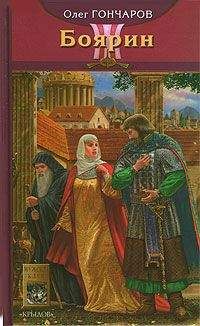Обошел я конюшню. Поднялся по лестнице приставной на чердак. Свежим сеном он до конька забит.
— Кветан, — заглянул я в лаз. — Ты тут?
— Воевода ушел? — Из темной дыры голова высунулась.
Лохмат был старшой конюший. В бороде трава сухая застряла, в волосах всклоченных былинка торчит. Ни дать ни взять — домовой.
— Ушел, — говорю я ему. — Велел коней принимать. Дружина вернулась.
— Слава Перуну и всем богам. Пронесло, значит, — кивнул он.
Былинка с волос соскочила.
— Говоришь, ратники пришли? — Рядом с головой конюшего еще одна показалась.
Девка ладошкой с кокошника сено смахнула.
— И ты тут, Томила? — улыбнулся я.
— А что? Нельзя, что ли? — улыбнулась она в ответ. Первой из лаза выбралась, косу поправила, сарафан отряхнула. Подбоченилась и мне подмигнула задорно.
— Радуешься, что теперь к Алдану бегать будешь? — зло сказал конюх, на четвереньках из сена выполз, на ноги встал.
— А что? — снова спросила девка и сама же ответила: — Алдан мужик видный. При Свенельде в десятниках. Не то, что ты, замухрышка. Посторонись-ка. — Она меня бочком подвинула и с чердака спустилась.
— Ох, Добрыня, и чего с нами девки делают, — вздохнул Кветан. — Вот кажется, кто она? Ну, Томила эта. Доярка простая. Но до чего горяча…
— Она тебя, что? Как корову доит? — не сдержал я смеха.
— Как быка, — загоготал старшой. — Пошли, что ли? Работать надо…
Мы поспели вовремя.
Притихли ратники на киевском майдане. Расступились. Проложили живой коридор от ворот града до терема княжеского. И по этому коридору на Старокиевскую гору въехали хозяева и господа земли Русской — княгиня Ольга и каган Святослав. Мать и сын…
Каган Киевский, Святослав, на отцовском коне сидел. Белом, как облако. Ингварь его все больше в поводу водил. Не любил Ольгин муж верховым быть. Привык с малолетства, чтоб у него ведущий имелся. Сначала дядя, потом Асмуда за поводыря держал, Ольгу, как мать родную, слушался. Так ему легче было. Если что не так — не с него, а с поводыря спрос. Оттого и не стал он сам ведущим.
А конь его, Облак, свободу пуще хозяина любил. Но меняются времена. От вчера к завтра бегом бегут. Был вчера Облак символом власти кагановой, сегодня под молодым Святославом на волю рвется. А завтра… кто знает, что завтра будет?
Никто.
Набьют завтра кишки коня каганова его же мясом, повесят над костром, в дыму закоптят. Будет не конь, а снедь для голодного. А то и до человечьих рук не доживет. Порвут волки. Сытью волчьей гордость конская обернется. И кому знать, как лучше? Снедью стать или сытью? Все одно — конец один. Пустота. Стынь вечная. Так что гуляй, пока гуляется, гарцуй, пока гарцуется, а дальше — что Доля даст…
Обвыкся Святослав в звании своем. Надменно в седле сидит, подбородок высоко задрал. Малец себя и вправду властителем чувствует. Значит, не зря с мамкой по землям Русским прошел. И Ладога, и Новгород, и Русса Старая, и Чернигов со Смоленском ему стремя поцеловали. Только древляне при своих остались. Князь Древлянский в Любиче узником, сын его в Киеве конюхом, а город стольный Коростень огнем пожгли. Вроде и кончился вовсе род Древы, Богумировой дочери. [8]
Но нет.
Шалишь.
Иначе не сознался бы Свенельд, что древлянский люд с Путятой во главе хотел отбить Мала — князя бывого, [9] из любичского заточения. А что сын его с дочерью на черной работе маются, так это не навсегда. Девять лет как сон пустой пролетят. На свободе всяк себе хозяин. Подождет земля Древлянская, когда снова голову поднять можно будет. И как знать, чем тогда сон девятилетний обернется?..
Эх, юность…
Кажется — подожди чуток, и все, как мечталось, сбудется.
А Святослав хоть и дите, а на коне, словно влитой, сидит. Приучился, значит. К седлу приспособился.
Вспомнилось вдруг, как я в свой первый поход ходил. Как задницу с непривычки о седло стер. И друзья мои вспомнились. Славдя и Гридя. И болью по сердцу вдарило. Тоской резануло. Марена их в том походе нашла. Я уж вон какой вымахал, а они так чадами и остались. Ну да пусть им сладко будет в светлом Ирии, в Сварге небесной.
Отмахнулся я от прошлого. Недосуг мне старое ворошить. Как Белорев наставлял — вчера кончилось, завтра не пришло, значит, днем сегодняшним жить надобно. Вот и живу.
А княгиня хороша.
Гордая.
Кичливая.
Едва смотрит на своих воинов. Впрочем, ее ли это воины? Ратью-то Свенельд управляет, а у кого рать, у того и сила. У кого сила, тот и прав. Только Ольга своего не отдаст. Норовиста, что та кобылка, на которой она в свой стольный город въехала, как сядешь на нее, так и слезешь.
И одежа на ней яркая. Незапыленная. Да и с чего ей пылиться? Это дружина по берегу шла, а мать и сын в ладье по Славуте-Днепру спускались. Кони-то под ними не нуженые. Отдохнувшие. Небось, не один день их вода днепровская качала. Соскучились по твердой земле, оттого теперь под седоками и выплясывают.
А на Ольге шапка соболем оторочена, охабень [10] лазоревый лисьим мехом подбит, летник черевчатый золотой ниткой изукрашен, а вошвы на летнике жемчугами обсыпаны. Ожерелье на шее тесное, оберегами расшитое. Камень алый с зеленым чередуется. А из-под подола узкий чоботок торчит, носком острым в стремя вставлен.
Ратники мечами в щиты застучали. Приветствуют кагана и княгиню.
А те посреди майдана поводья натянули.
Встали.
— Вот и наше время пришло, — шепнул Кветан и меня в бок пихнул. — Пошли, что ли?
Вышли мы на майдан. К всадникам подошли.
— Дозволь, матушка, — с поклоном земным сказал старшой конюший, — коней принять.
Взглянула на нас Ольга. Па мне взгляд остановила.
— А чего это ты, Добрынка, без поклона подошел? — строго спросила.
Выдержал я ее взгляд.
— Не приучен я спину зазря гнуть, — говорю. — Не закуп я твой. Не рядович. И в бою ты меня в полон не брала. Так что долгов перед тобой у меня нет. Коли конюхом меня определила, так на то воля твоя. Я слово дал и договор держу. Только ниже, чем я есть, меня сделать не в твоей власти.
Опешила она от этих слов. Растерялась. Глаза в сторону отвела. А дружинники, что рядом стояли, возмущенно зашумели. От них и по всему майдану гул пошел. Дерзким я, видать, показался.
Один ратник из ряда вырвался. На меня бросился.
— Как ты посмел, холоп! — кричит.
Меч плашмя повернул. Хотел меня поперек спины приласкать. Да усердие свое не рассчитал. Слишком много прыти в удар обидный вложил. Ушел я в сторону. Только клинок в пустоте просвистел. Потерял вой опору. Заваливаться начал. А я под него подсел, да в бедро его подтолкнул. Опрокинулся ратник. Под ноги каганову коню отлетел. Грохнулся. Хлопнул щитом червленым по земле. Громко у него получилось. Заграяли вороны киевские. В небо взметнулись.
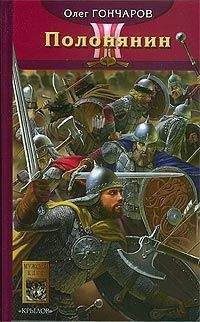
![Карочка - [email protected] - Наследники](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)