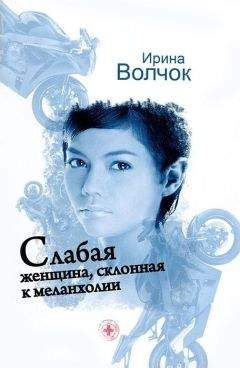Прасковья облизнулась — нет-нет, Салтыков был категорически не в ее вкусе, но она просто органически не могла не возгореться желанием при виде столь отменной боевой оснастки! — и с любопытством уставилась на великую княгиню. Ей давненько хотелось узнать, ревнива ли будущая императрица, жестокосердна ли, мстительна ли. То есть кое-что о характере Екатерины Прасковья уже знала, но еще не все точки над i были расставлены.
Что и говорить, чело Екатерины омрачилось. Она вздохнула, губы искривились, и Прасковья замерла, ожидая услышать или горестные стенания (значит, слаба сердцем будущая государыня, горько же ей в жизни придется!), или гневный вопль (значит, жестока, и, стало быть, горько придется тем, кто рядом с ней), однако по губам Екатерины пробежала только печальная усмешка, а потом Като сказала, взяв подругу под руку:
— Скушно мне, Прасковья. Развлеки меня!
Именно в то мгновение, признавалась позднее Прасковья Александровна, она и поняла, сколь сильную личность видит перед собой, именно тогда прониклась к Екатерине горячей преданностью и дала слово никогда, ни в чем, ни за что ей не изменить.
Ну что ж, будущее проверит, сколь прочно держала Прасковья это слово… но не станем забегать вперед!
— Развлечь тебя, Като? — расцвела Прасковья в улыбке. — Да изволь! Нынче же вечером, коли велишь!
Нынче же вечером из спальни великой княгини тайно выскользнули две фигуры — в мужских костюмах, однако слишком узкоплечие и широкобедрые для того, чтобы принадлежать мужчинам, — и прокрались через сад к тайной калиточке, возле которой их ожидала невзрачная карета.
Кучер фамильярно приподнял шляпу:
— Наше вам, дорогие дамы! Извольте садиться, домчу с ветерком!
Если бы в сей миг рядом случился человек, знакомый с придворным кругом, он непременно сказал бы, что голос сей принадлежит Льву Нарышкину… а впрочем, поскольку лицо кучера было закрыто маской, а волосы — париком, ничего утверждать наверняка было невозможно. Кстати, лица седоков были тоже закрыты масками, поэтому оставалось загадкой, как и почему кучер назвал их дамами.
Однако Бог с ними, с загадками, проследуем дальше за каретою, которая промчалась по темным, сонным улицам Санкт-Петербурга и остановилась около дома гофмаршала Александра Александровича Нарышкина, кузена веселого Левушки. Александр Нарышкин был женат на Анне Никитичне, урожденной графине Румянцевой, близкой родственнице Прасковьи. В Санкт-Петербурге ходили слухи, что дом Нарышкина для гостей всегда открыт — впрочем, как и его супружеское ложе…
У Нарышкина частенько собирались сестры гофмаршала, Мария и Наталья, — две отъявленные искательницы любовных приключений. Они всегда приводили с собой какого-нибудь интересного молодого человека, который желал взять несколько уроков в галантном обращении с дамами на балу, в беседе или же в постели. Хорошенькие сестрички никому и никогда не отказывали, и. таким образом. чуть не весь молодой Петербург перебывал в числе их учеников.
Нынче здесь оказался граф Станислав Понятовский, недавно приехавший из Варшавы.
Кучер, снявши маску, и впрямь оказался Львом Нарышкиным, однако гости — вернее, гостьи — предпочли сохранить инкогнито и остались в масках. Любезная хозяйка называла их «дорогие иноземки», и, даже если у нее и возникли какие-то мысли о том, кто пожаловал нынче в ее гостеприимный дом, она держала эти мысли при себе.
Левушка веселился, называл Понятовского польским шпионом, обещался непременно донести государыне о его враждебной деятельности, а между тем «шпион» мало внимания обращал на его болтовню, потому что увлекся переглядками с одной из приезжих «иноземок».
Подали вина, начались совсем уж веселые и фривольные разговоры… как-то так получилось, что Понятовский и неизвестная гостья сначала сели рядышком, а потом прошли посмотреть, что за мебель стоит в соседней комнате, каковы мягки там кушетки да диваны…
Вторая дама проводила их завистливым взором, который не остался не замеченным хозяйкой.
— Что-то ты невесела, Прасковьюшка? — ласково промолвила Анна Никитична Нарышкина. — Неохота замуж, да?
— Ой, неохота, — тяжело вздохнула та, снимая маску и впрямь оказываясь не кем иной, как Прасковьей Румянцевой. — Жарко в личине, передохну. Налей мне вина, Аннушка, посоветуй, как быть. Сама знаешь, кого мне сватают.
— Слышала, слышала, — кивнула Анна Никитична. — Ну что ж, Брюсы — род хороший, у императрицы на добром счету, да и жених твой, Яков Александрович, богат, собой пригож, молод…
— Моложе меня! — поджала губы Прасковья. — На три года моложе! Мне двадцать два. Ему девятнадцать. Был бы хоть ровесник, а то мальчишка! Мне по нраву мужчины значительные, умудренные летами и опытом.
— Ничего, это пройдет! — засмеялась ее родственница. — Поверь мне, ты еще оценишь молодость и пылкость, настанет время, когда тебе не то что три — двадцать три года разницы покажутся сущим пустяком! А Брюс тебе в самый раз. Беда в том, что он простоват, мужиковат, умом не слишком крепок…
— Да разве ж это беда? — пожала плечами Прасковья. — Кто сказал, будто муж умен должен быть?! Небось дураком управлять проще. Пожалуй, ты права: пойду за Якова Александровича! Он ведь еще чем хорош? Вояка! То и дело в полку. Что может быть лучше супруга, которого дома днем с огнем не найдешь? Так и быть, скажу маменьке, согласна, мол. Потом быстренько рожу Брюсу сына или дочку — да и с плеч долой! Снова стану жить в свое удовольствие!
Сказано — сделано! Вскоре была сыграна свадьба Якова Брюса и Прасковьи Румянцевой. Великая княгиня Екатерина Алексеевна прислала дорогой подруге богатые подарки и сама почтила своим присутствием ее свадьбу, однако ж сильно по ее отсутствию во дворце не печалилась: после той достопамятной встречи начался ее бурный роман с обворожительным поляком Станиславом Понятовским, и этот роман на долгое время поглотил ее целиком и полностью, ну а во дворце их отношения сделались притчей во языцех.
Тем временем Прасковья, как и обещала, проворно родила дочку, которую — понятно, в честь кого, — назвала Екатериной (великая княгиня была восприемницей младенца и крестной матерью), и, поскорей передав ее на попечение мамок-нянек, вернулась к своим фрейлинским обязанностям, вновь прочно утвердясь при великой княгине на положении ближайшей подруги и конфидентки. Супруг, граф Брюс, не возражал, ибо вскоре после свадьбы, едва успев обрюхатить жену, отбыл в качестве волонтера на театр боевых действий — как раз началась война Франции с Пруссией, и вот во французской-то армии Яков Александрович пожелал служить. Оно конечно, тотчас после свадьбы очертя голову, добровольно кинуться прямиком в пасть кровавым псам Беллоны… воля ваша, как-то оно этак… неловко… наводит на некие размышления… Ну что же, пусть кто что хочет, тот то и думает, зато у Прасковьи теперь оказались вполне развязаны руки. Муж далеко, что хочу, то и ворочу! Она была теперь назначена статс-дамой малого двора и стала во главе целого штата молоденьких фрейлин, беззаветно преданных Екатерине, посвященных во множество ее тайн — вполне, впрочем, прозрачных… — однако готовых молчать о них даже под пытками. Что и говорить, Екатерина умела возбуждать в людях преданность к себе, а Прасковья умела, где лаской, где таской, преданность эту поддерживать и дисциплинировать. Сам великий князь Петр Федорович, большой поклонник строжайшей прусской муштры, не единожды говаривал: из графини, мол, Брюс вышел бы хороший полковник, — однако если он думал, что этим комплиментом сможет снискать расположение Прасковьи Александровны, то зря старался: забота об интересах Екатерины Алексеевны составляла весь смысл ее существования, и пеклась она об этих интересах со всем мыслимым и немыслимым старанием.