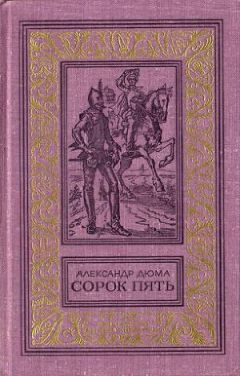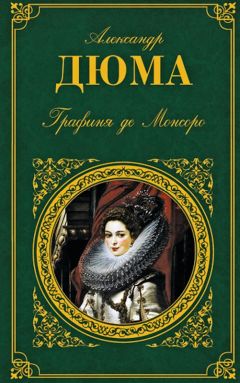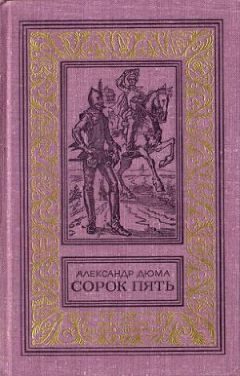Глашатай остановился передохнуть. Присутствующие, воспользовались этой паузой, чтобы выразить удивление и недовольство долгим улюлюканьем, которое глашатай, надо отдать ему справедливость, выдержал и глазом не моргнув.
Офицер повелительно поднял руку, и тотчас же снова наступила тишина.
Глашатай продолжал без смущения и колебания — видимо, привычка закалила его против всяческих проявлений народных чувств:
— «Мера сия не касается тех, кто предъявит опознавательный знак или кто окажется вызванным письмом или приказом, составленным надлежащим образом.
Дано в управлении парижского прево по чрезвычайному повелению его величества двадцать шестого октября в год от рождества господа нашего тысяча пятьсот восемьдесят пятый».
— Трубить в трубы! — послышалась команда.
Тотчас же раздался хриплый лай труб.
Толпа за цепью швейцарцев и солдат зашевелилась, словно извивающееся тело змеи.
— Что это означает? — вопрошали наиболее мирно настроенные.
— Наверно, опять какой-нибудь заговор!
— Это устроено, чтобы помешать нам войти в Париж, — тихо сказал своим спутникам всадник, со столь диковинным терпением сносивший дерзкие выходки гасконца. — Швейцарцы, глашатай, запреты, трубы — все ради нас. Клянусь честью, я даже горд этим.
— Дорогу! Дорогу! Эй вы там! — кричал офицер, командовавший отрядом. — Тысяча чертей! Или вы не видите, что загородили проход тем, кто имеет право войти в городские ворота?
— Ручаюсь головой, кое-кто пройдет в Париж, хотя бы все горожане на свете стояли между ним и заставой, — сказал, бесцеремонно протискиваясь сквозь толпу, гасконец, чьи дерзкие речи вызвали восхищение метра Робера Брике.
И действительно, он мгновенно очутился в проходе, расчищенном швейцарцами.
Можно себе представить, с какой поспешностью и любопытством обратились все взоры на человека, которому посчастливилось выйти вперед, когда ему велено было оставаться на месте.
Но гасконца мало тревожили эти завистливые взгляды. Он гордо остановился, напрягая тело под тонкой зеленой курткой. Из-под слишком коротких потертых рукавов на добрых три дюйма выступали костлявые запястья. Глаза были светлые, волосы курчавые и желтые либо от природы, либо из-за дорожной пыли. Длинные мускулистые ноги напоминали ноги оленя. На одной руке была надета вышитая кожаная перчатка, в другой он вертел ореховую палку. Он огляделся по сторонам и, решив, что упомянутый нами офицер самое важное в отряде лицо, подошел прямо к нему.
Офицер с минуту молча осматривал гасконца. Тот, нисколько не смущаясь, делал то же самое.
— Вы, видно, потеряли шляпу? — спросил наконец офицер.
— Да, сударь.
— В толпе?
— Нет. Я получил письмо от своей подруги и стал его читать у речки, за четверть мили отсюда, как вдруг порыв ветра унес и письмо и шляпу. Я побежал за письмом, хотя пряжка у меня на шляпе — крупный бриллиант. Схватил письмо, но, когда вернулся за шляпой, оказалось, что ветром ее снесло в реку и она уплыла по направлению к Парижу… Какой-нибудь бедняк разбогатеет на этом деле. Пускай!
— Так что вы остались с непокрытой головой?
— А разве в Париже я шляпы не достану, черт побери? Куплю шляпу еще красивее старой и украшу бриллиантом в два раза крупнее.
Офицер едва заметно пожал плечами. Но это движение не ускользнуло от гасконца.
— В чем дело? — сказал он.
— У вас есть пропуск? — спросил офицер.
— Конечно, есть, и не один, а целых два.
— Одного достаточно, был бы он в порядке.
— Но, если я не ошибаюсь — да нет, черт побери, не ошибаюсь, — я имею удовольствие беседовать с господином де Луаньяком? — спросил гасконец, вытаращив глаза.
— Вполне возможно, сударь, — сухо ответил офицер, отнюдь не в восторге от того, что его признали.
— С господином де Луаньяком, моим земляком?
— Отрицать не стану.
— С моим кузеном!
— Ладно, давайте пропуск.
— Вот он.
Гасконец вытащил из перчатки искусно вырезанную половину карточки.
— Идите за мной, — сказал Луаньяк, не взглянув на карточку, — вы и ваши спутники, если с вами кто-нибудь есть. Мы проверим пропуска.
И он встал у самых ворот.
Гасконец с непокрытой головой последовал за ним.
Пятеро мужчин потянулись вслед за гасконцем.
На первом из них была великолепная кираса такой изумительной работы, что казалось, она была создана самим Бенвенуто Челлини.[5] Однако фасон кирасы вышел из моды, и потому, несмотря на свое великолепие, она вызывала не восторг, а насмешку.
Второй спутник гасконца шел в сопровождении толстого седоватого слуги: тощий и загорелый, он казался прообразом Дон Кихота, точно так же как слуга его мог сойти за прообраз Санчо Пансы.
У третьего на руках был десятимесячный младенец, за кожаный пояс мужчины держалась жена, за юбку которой цеплялись два ребенка — один четырех, другой пяти лет.
Четвертый мужчина тащился хромая, с длинной шпагой на боку.
Наконец, шествие замыкал красивый молодой человек верхом на породистом вороном коне.
По сравнению с прочими он казался настоящим королем.
Вынужденный продвигаться вперед достаточно медленно, чтобы не опережать своих сотоварищей, молодой человек на мгновение задержался.
В тот же миг он почувствовал, как кто-то дернул его за ножны шпаги, и обернулся.
Внимание его привлек черноволосый юноша, невысокий, гибкий, изящный, с горящим взглядом и в перчатках.
— Что вам угодно, сударь? — спросил всадник.
— Сударь, прошу вас о милости.
— Говорите, только поскорее, пожалуйста, видите, меня ждут.
— Мне надо попасть в город, сударь, мне это крайне необходимо, понимаете?.. А вы одни, вам нужен паж, который оказался бы под стать вашей внешности.
— Так что же?
— Услуга за услугу: проведите меня в город, и я буду нашим пажом.
— Благодарю вас, — сказал всадник, — но я не нуждаюсь в паже.
— Даже в таком, как я? — спросил юноша и так странно улыбнулся, что ледяная оболочка, в которую всадник пытался заключить свое сердце, начала таять.
— Я хотел сказать, что не могу держать слуг.
— Да, я знаю, вы небогаты, господин Эрнотон де Карменж, — молвил паж.
Всадник вздрогнул. Но, не обращая на это внимание, юноша продолжал:
— Поэтому о жалованье мы говорить не станем, наоборот, это вам заплатят в сто раз больше, если вы согласитесь исполнить мою просьбу. Позвольте же служить вам, хотя мне и самому случалось отдавать приказания.
И юноша пожал всаднику руку, что со стороны пажа было довольно бесцеремонно. Затем, обернувшись к уже известной нам группе всадников, он сказал: