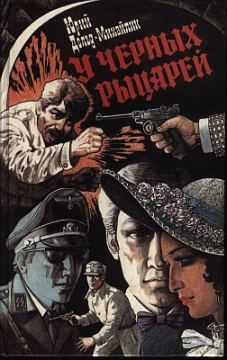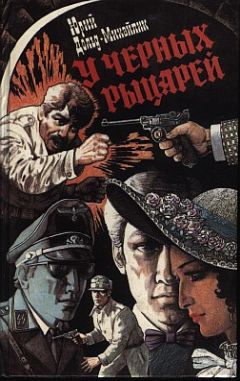— Хоть вы и воевали против нас, я не склонен причинять вам неприятности, — сказал он миролюбиво, хотя взгляд его был так же холоден.
— Я не совсем понимаю, сэр, о каких неприятностях идёт речь.
— Я же говорил — у нас была возможность ознакомиться с личным делом каждого.
— Тем лучше.
— Не сказал бы… Вы должны признать, что начали войну в рядах Советской Армии, а потом перешли к немцам. Значит, против нас воевали не под нажимом, а добровольно!
— Я немец по происхождению.
— Но русский подданный. С вами мы можем поступить соответственно имеющемуся между союзниками договору.
— Я не знаю его сути.
— У нас с Советской Россией заключён договор, по которому эмигрантами считаются лица, уехавшие из России до тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Все, покинувшие страну после, считаются лицами перемещёнными и подлежат возвращению на родину независимо от их желания.
— Я немец и…
— Это не имеет значения. По сути, вы советский подданный. Но я не думаю, что перспектива вернуться в Россию вас очень соблазняет. Ведь советский трибунал ещё осенью тысяча девятьсот сорок первого года приговорил вас к расстрелу за так называемую измену родине, — очкастый особенно внимательно взглянул на Григория, — заочно.
— Это мне известно.
— Впрочем, мы не заинтересованы, чтобы вас… ликвидировали. Хотя договор между союзниками…
— Выходит, меня передадут советским войскам фактически для расстрела?
— Такого решения ещё нет…
— Могу я надеяться, что его и не будет?
Очкастый долго не отвечал. Он молча прикурил сигарету, глубоко затянулся, выпустил длинную струйку дыма и только тогда, подчёркивая каждое слово, бросил:
— Всё будет зависеть только от вас…
— От меня?
— Мы всегда точно выполняем международные соглашения. У себя в лагере никакой агитации среди военнопленных не ведём: каждому предоставляем право свободного выбора… Вот и вы — вы сами должны подсказать нам выход. Если ваши планы нас устроят, поможем, рассчитывайте на нас полностью. Через несколько дней я вызову вас, и вы сообщите о своём решении. Больше я вас не задерживаю…
Здесь было о чём подумать. Ловко использовал очкастый его личное дело! Но напрасно он надеется, что тот, кого тут принимают за Гольдринга, сам подскажет «выход».
Ясно — идёт вербовка. Но куда? Для чего? Теперь надо только выжидать. Решение примут они сами. Кто «они»? Григорий догадывался и знал — в ближайшие дни они о себе напомнят, забрало будет отброшено, и все станет ясно.
Но прошла неделя, и никто его не тревожил. Это начинало беспокоить. Внешне Григорий не подавал вида, но в глубине души не мог не признать: лагерное безделье пагубно на него влияет, он начинает нервничать.
Только на десятый день после разговора с очкастым Григория снова вызвали в комендатуру.
Кабинет, в котором происходил первый разговор, находился на втором этаже. Григорий занёс было ногу на ступеньку, но сержант, сопровождавший его, предупредил:
— Не туда!
На этот раз он повёл Григория по длинному коридору и открыл дверь в маленькую, почти пустую комнатку. Кроме столика и двух стульев, здесь ничего не было.
— Подождите, к вам выйдут, — бросил сержант и исчез.
Григорий был уверен: за ним следят через какой-то скрытый глазок, и подчёркнуто равнодушно закурил сигарету. Он успел положить в пепельницу несколько окурков, но никто не приходил, о нём словно забыли. Игра на нервах!
Наконец дверь бесшумно отворилась и на пороге возникла фигура, которую Григорий меньше всего ожидал здесь увидеть. Мелкими шажками комнату пересекал попик — маленький, худенький, с высушенными, словно восковыми щеками, покрытыми сеткой глубоких морщин. Опущенные веки лишали лицо старика малейших признаков жизни. Казалось, движется мумия, закутанная в длинную чёрную рясу. Но вот веки поднялись, открыв ласковые чёрные глаза, и тотчас же, словно веер, разбежались морщинки. Лицо мумии превратилось в лицо живого, хоть и старого человека.
— Садитесь, сын мой! — голос у попика был такой же мягкий, ласковый, как и взгляд.
Григорий сел, слегка облокотившись на стол, так же, как это сделал и его неожиданный собеседник.
— В ваших глазах, сын мой, я читаю удивление и прихожу к выводу, что вам не так уж часто приходится иметь дело с духовными особами. Я не ошибся?
— Простите, отче! Я недостаточно хорошо владею английским, чтобы свободно разговаривать. Понимаю, но не настолько, чтобы поддерживать беседу…
— А я почти не знаю немецкого… Как же быть? — Попик на миг задумался или сделал вид, что задумался. Потом в глазах его загорелись искорки, и ласковая улыбка заиграла всеми многочисленными морщинками на щеках, вокруг глаз и губ.
— Мне кажется, есть такой язык, на котором мы быстро договоримся, — совсем свободно, без запинки произнёс попик на чистейшем украинском языке, певуче растягивая окончания слов.
— Яволь! — нарочито по-немецки ответил Григорий.
— Почему вы отвечаете по-немецки?
— Это мой родной язык.
— А разве слово, которое в детские годы помогает нам познать мир и науку, не становится родным? Вы же, как мне известно, учились в украинской школе?
Григорию стало ясно: человек в рясе так же, как и очкастый, отлично информирован о прошлом своего собеседника.
— Надеюсь, вы пришли не для того, чтобы выяснить моё отношение к украинскому языку? — в голосе Григория послышалось нетерпение.
Попик укоризненно покачал головой, но голос его, как и раньше, звучал ласково, примиряюще.
— Вы чересчур нервны, сын мой… Но нам, духовным пастырям, для того и вручён святой крест, чтобы вносить в смятенные человеческие души мир и благодать. Чтобы зло в людских сердцах отступало перед нами…
— Нельзя ли ближе к делу, отче? Я человек военный, привык говорить коротко и ясно. Того же жду и от собеседников. В деле спасения людских душ я разбираюсь мало, да, признаться, и не намерен пополнять свои знания в этой области.
Сказанное прозвучало значительно резче, чем того хотел Григорий. И тем неожиданнее была реакция попика. Подойдя к Григорию и положив ему руку на плечо, он почти весело проговорил:
— Очень приятно разговаривать с деловым человеком. Вы, милый барон, освободили меня от нудной обязанности напрасно терять время на вступительную речь. В вашем характере, мне кажется, сочетается немецкая пунктуальность и американская деловитость. Итак, время — деньги, не станем тратить его попусту. Прежде всего, кто я? Скромный рядовой священник греко-католической церкви. Зовут меня отец Фотий. Наш высший пастырь — его святейшество папа римский поручил мне, ознакомившись с делом на месте, доложить ему о положении нашей многострадальной паствы, особенно среди побеждённых. Ибо, когда страдает плоть людская, но возрадуется душа верующего, благодать божья стоит у врат жизни раба своего.