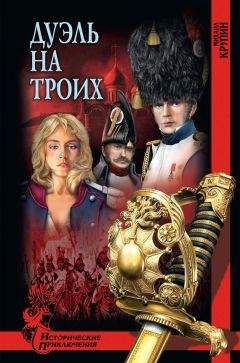– А вы – серьезная! – пылко обличил я ее в ответ.
Солдаты ржали уже вовсю.
– Да вы, вы все… – Монашка беспомощно заозиралась.
Я тоже оглянулся на товарищей и развел руками:
– Вот, а я ведь вам говорил, что сюда нельзя!
Монашка вдруг, воспользовавшись нашим расслаблением, снова ухватились за поводья и вытянула двух «анатолийцев» на площадь.
– Уводите их, немедленно уводите!
Тут на площадь как раз въехал еще один небольшой конный отряд. Мундиры – того же покроя и цвета, как наши, а вот нашивки… Если не знать их, так и не бросятся в глаза. Но мы все их знали.
Впереди отряда – не к ночи будь помянут! – скакал сам месье Пикар. Вечно он является не вовремя, и не там, где надо. Видно уж, не вовремя родился!
Пикар мгновенно оценил ситуацию.
– Взять ее! – последовал хлесткий как выстрел приказ. Чего же еще можно было от него ожидать? – Судя по безумным глазам, она из тех сумасшедших, что обстреляли авангард перед Кремлем.
Несколько его подчиненных тут же соскочили с седел и бросились к нашей новой знакомой. А я почему-то (вечно лезу не в свое дело!) встал на их пути и обратился к Пикару снизу вверх как можно невинней и проще:
– Да нет, господин полковник. Она просто не любит коней. У нее на них нервический насморк начинается. – Для убедительности я даже чихнул. – Говорит, коров, гусей – пожалуйста, а лошадей – боже упаси!..
Однако Пикар только нахмурился.
– Не суйтесь не в свое дело!
Он спрыгнул, вернее, скатился как бурдюк, с коня и присел пару раз, разминая ноги.
– Найдите подходящие квартиры и расселите людей. – Эту фразу Пикар бросил, уже отвернувшись и уходя по мостовой в сторону утреннего русского солнышка.
Тогда я обогнал полковника и начал распинаться перед гадом на другой манер:
– Господин Пикар, у вас есть переводчик, а у нас нету. Здесь никто не говорит по-французски. Здесь вообще никто никак не говорит. Потому что нет никого. А девица может нам все рассказать и показать.
– Я слышал вашу перепалку. – Пикар устало приостановился. – У нее для вас есть только одно слово – «вон!» Сами во всем разберетесь!
Он зашагал дальше. И мордовороты из его ведомства уже поволокли куда-то по площади страстную девчонку в монашеском куколе.
Мной, как уже не раз в этом походе, овладела беспомощность. Я вдруг вспомнил, как в Смоленске умирал Фуке…
И, оставаясь на месте, я сказал Пикару вслед (именно не прокричал, а сказал, но так, что все услышали):
– Хотите хоть пару раз выстрелить на этой войне? – Я кивнул на удаляющуюся монашку. – Во время боя, понятно, вам это никак не удается, поскольку противник всегда слишком далеко и не смеет к вам приблизиться…
Развернувшись на каблуках, Пикар ухватился за рукоять шпаги. Я с любезной готовностью сделал шаг к нему. Но старый лис с усилием сдержался, скрипнув зубами и судорожно стиснув пальцами эфес.
– Я бы вызвал вас на дуэль, – изрек он, глядя мне в глаза и, видимо, мысленно раскладывая меня на своем изуверском станке, – если бы не военное время. Некстати!
– Зато вы можете арестовать меня и пристрелить в камере без всяких дуэльных сложностей, – не моргнув, подарил я ему здравую мысль.
Я почти видел, как кровь ударила в его пустую голову, и Пикар ринулся на меня, даже не обнажив шпаги. Своих передвижений я не помню. Помню только, что нас растаскивали с двух сторон. Холуи Пикара – с одной стороны, мои ребята – с другой. Видимо, это было не очень-то просто, так как могучий Люка, в конце концов, встал между нами, расставив руки.
И едва первый порыв стычки иссяк, Люка взял под руку полковника и легким движением (так, что это выглядело ничуть не насилием, а даже галантностью) переместил его в сторону и что-то нежно зашептал на ушко.
С омерзением представляю себе, что бы это могло быть: «Умоляю, простите его, месье Пикар. Он глаз положил на монашку, вот и кипятится. Хи-хи!..»…
Так или иначе, этот гад вдруг как-то весь обмяк. Затем послышалось его демонстративно раскатистое «ха-ха-ха!». Наконец родился его любимый небрежный жест…
– Русские девушки не слишком вас жалуют вниманием. То-то вы сражаетесь даже из-за монашки. Так бы сразу и сказали! – Пикар фамильярно хлопнул тыльной стороной ладони по груди Люка. – Отдаю ее вам! – Он сделал грациозный пасс обеими руками. – Попробуйте выиграть хотя бы эту битву, – при этом пикаровские мордовороты разом отцепились от монашки, и она чуть не брякнулась на мостовую, – или отступите на прежние позиции, как при Бородине?
Я открыл рот для достойного ответа, но Поль и Франсуа одновременно дернули меня за оба рукава.
Так что Пикар уже беспрепятственно уселся в седло и, приняв надменную осанку, скрылся за углом собора…
Мои друзья тут же мгновенно, но учтиво выпроводили юную скандалистку в монашеском куколе с площади от греха подальше. Видимо, сообразив, что дело для нее могло закончиться весьма плачевно, девица больше не шумела. Только издали дважды оглянулась на меня.
А я с силой развернул к себе Люка.
– Что ты наплел этой скотине Пикару?
– Надо же было как-то смягчить обстановку… – отвел он глаза.
– Я не нуждаюсь в защитниках! Становись тогда к барьеру вместо мерзавца!
– И это благодарность?!
– Что ты ему сказал?
– Сказал, что ты влюбился, вот и кипятишься…
– Дурак! Он ничего бы мне не сделал. Император ценит моего отца. Помнит, что он был дружен с Вольтером.
Теперь Люка сам пихнул меня в плечо.
– Так что ж ты с ним развел эти турусы? Пошел бы сразу к императору и сказал, что Пикар хватает девушек просто так!
Невинно вскинув брови, я смерил друга взглядом.
– Я не стукач в отличие от некоторых. – И, оставив озадаченного Люка переваривать этот ответ, побежал устраиваться на постой.
Эти тулузские тугодумы, вроде Люка, часто достигают двух целей сразу. Он спасал меня, а спас и эту патриотку.
И почему ее лицо и голосок мне кажутся такими знакомыми?..
Из журнала Таисии (в послушании Анны)
Трубецкой-Ковровой
Сентябрь 1812 года
…Догадалась! Буду снова писать, прилежно вести этот «дамский» журнал, иначе я сойду с ума!
Я не прикасалась к этим презренно-надушенным страничкам, прервала все записи с тех пор, как пришло сообщение о гибели Алеши под Смоленском. Потом, когда дала обет послушницы, эти записи, показалось, остались далеко – в погибшем для меня навеки низком светском мире…
Но ведь писаное слово, как говаривала матушка-игуменья, может быть не только развлечением, а исповедью души. Или я ищу в этой мысли оправдание для себя, чтобы развлечься?.. Не знаю, но если не уйду, не отвлекусь от ужасов, охвативших все любимые места (если еще не всю Россию!) – как бы ум мой вдруг не помешался.