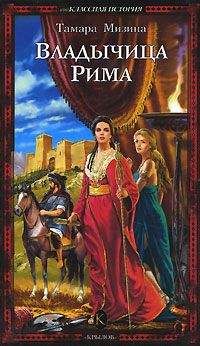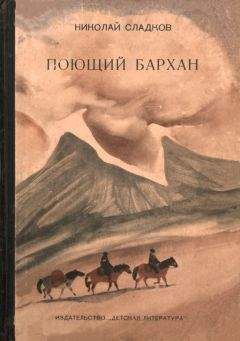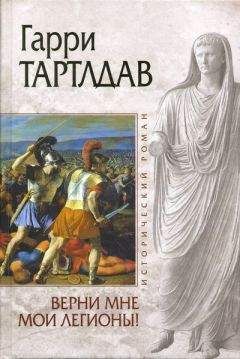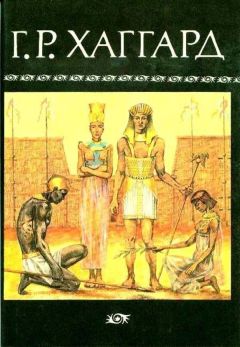Урл не обратил на это внимания. Он обдумывал услышанное:
– Госпожа целомудренна. Она всем отказывает…
С той же милой улыбкой Авес ответил:
– Она благоразумна и не хочет нарушать наши обычаи, но никакое благоразумие не может помешать ей теперь.
– А что с ними будет потом?
– Не знаю, но заставить их замолчать – труда не составит. Да и велика ли беда? Женщина не может без мужчины. Госпожа – чужеземка, они – чужеземцы, а мы промолчим. Такую услугу без благодарности не оставляют…
– Это так. Она – женщина… Сколько с тобой римлян?
– Восемь. Старухе будет из чего выбрать.
– Ну, Авес, какая же она старуха? Она молода и собой хороша. Порой мне кажется, что слишком молода и слишком хороша.
Авес пренебрежительно хмыкнул:
– Да уж, юная дева.
– Авес, я вот что думаю: пусть мой старичок будет девятым. Девять – число совершенное.
– Он не слишком стар?
– Нет. Я просто дразню его старикашкой. И потом не забывай: женщины порой имеют странный вкус. А умных вообще не понять. Им седобородые слаще сосунков.
– Попробуем, – не стал спорить Авес. Взглядом он отыскал прислушивавшегося пленника, поманил его пальцем. – Ты все слышал?
– Да.
– И все понял и запомнил?
– Да.
– Господин! – высокомерно поправил пленника Авес.
– Да, господин.
– Так запомни еще вот что: тот, кто не сумеет ублажить женщину, и тот, кого она выгонит из шатра, – будет ублажать мужчин, а потом я сам привяжу его на солнцепеке, изуродую и оставлю подыхать. А теперь иди и перескажи все, что слышал, остальным. Иди!
Пятясь, римлянин отступил. Урл громко окликнул своих воинов:
– Стафанион, Лолий, старикашку сюда!
Римлянин, которого Авесу назвали поэтом, спросил:
– Валерий, что они сделают с нами?
– Подарят.
– Не убьют?
– Потом – убьют.
– Как же так?!
Валерий повернул к товарищу перекошенное лицо, но ответить не успел.
Авес скомандовал: «Бегом!».
* * *
Верхний лагерь был невелик и состоял из пяти шатров. Пока Авес устраивал своих воинов, пока те готовились к ночлегу, Урл еще раз, уже на латыни, повторил пленникам то, что они должны будут делать и что их ждет, если они не приложат все старания для услаждения госпожи. Потом, видя, что пленные от усталости едва держатся на ногах, приказал принести им вина и хлеба с сыром, а когда они подкрепились, указал на двойной шатер и велел:
– Идите.
Шатер оказался пуст. Римляне некоторое время топтались у входа, не решаясь пройти вглубь. Слабый огонек масляного светильника еле-еле освещал внутренность шатра, поэтому пленники не сразу поняли, откуда раздался голос: «Кто там?». Из полутьмы расплывчатой тенью выделилась невысокая фигурка в широком и длинном женском одеянии. Длинная, свободно подпоясанная туника и почти такое же длинное покрывало лишали ее возраста. В одной руке она сжимала папирусный свиток, другой – отчаянно терла слипающиеся глаза. Голос ее звучал невнятно и сонно:
– Что вам надо?
Не дожидаясь ответа, она, встав на цыпочки, подтянула фитиль в горящем светильнике, от лучинки зажгла еще два (только теперь римляне увидели, что перед ними – девчонка), спросила, обегая их лица цепким, но в то же время непроницаемым взглядом:
– Кто вы?
Глаза ее остановились на самом старшем. Ответа она ждала от него. Мужчина поклонился и ответил:
– Помпоний Гай Луций, госпожа.
– Ты римлянин?
– Да.
Зябко поежившись, девочка подошла к ложу, забралась на него с ногами, укуталась в покрывало, поправила выбившуюся прядь и, подперев щеку ладонью, велела на латыни:
– Подойди.
Помпоний сделал несколько неуверенных шагов.
– Ближе.
– Госпожа…
Она приподняла голову. Бесстрастные серые глаза уперлись в лицо легата.
– Госпожа, будь милостива к побежденным…
Девочка шевельнулась, желая что-то сказать, но промолчала, и Помпоний продолжил:
– Сегодня госпожа упивается победой. Великой победой, а я, старый воин, стою перед ней опозоренный и бессильный. Но, госпожа, будь милостива и будь великодушна. Удовольствуйся тем, что уже имеешь. Молю тебя, не подвергай нас последнему поруганию. В память о предках твоих, об отце, о деде, не покрывай мои седины еще и этим позором! Отпусти нас, ибо милосердие – лучшее украшение дев и жен…
Он, наверно, долго еще говорил бы, но девушка перебила его:
– Я никогда не видела и не знала ни своего отца, ни своего деда, но будь по-твоему: ступай.
Узкая ладонь указала на приоткрытую дверь.
Побледнев, римлянин опустился на колени, простонал сквозь зубы:
– Госпожа!
Движение ладони остановило его мольбу.
Девочка повторила:
– Ступай, – и добавила: – Если хочешь.
Не обращая более на него внимания, она повторно, не торопясь, оглядела пленников, остановилась взглядом на Валерии, некоторое время сосредоточенно всматривалась в него, будто пытаясь что-то вспомнить, сделала знак рукой, чтоб подошел.
Пленник приложил ладонь к груди, как бы безмолвно спрашивая: не ошибся ли он? Девочка кивнула, подтверждая: да, она зовет его.
Шаг, еще шаг… Пытливый взгляд ловит каждый жест госпожи. Вот он уже в полушаге от ложа.
Опять движение руки. Пальцы указывают на ковер.
Не выразив ни удивления, ни досады, юноша покорно опустился на колени. Внимательно, почти пристально рассмотрев его лицо, Лиина чуть кивнула, словно соглашаясь с чем-то, и спросила:
– Как твое имя?
– Валерий Цириний Гальба.
– Знатное имя.
– Да… госпожа, – бесстрастно согласился юноша.
– Расскажи мне, Валерий Цириний Гальба, кто ты, откуда родом и что привело тебя в этот шатер?
Помедлив какое-то мгновение, пленник заговорил, заглядывая в глаза своей госпоже:
– Родился я в консульство Марка Валерия Мессалы и Гнея Летула, в девятый день до январских календ в усадьбе близ Гаррация. Мой отец – Сервий Гальба, консуляр и один из красноречивейших ораторов Рима, мать – Мумия Ахаика, внучка Катулла, впрочем, известная в Риме лишь достойным поведением. Матери я не помню, потому что потерял ее рано, но, лишив меня одной матери, судьба послала мне вторую, так как, назвав мачехой Ливию Оцелину, вторую жену моего отца, я бы проявил ничем не оправданную черную неблагодарность. Даже теперь, стоя перед лицом судьбы, принявшей ваш облик, госпожа, я не могу определить, кто из них больше сделал для меня: то ли та, что даровала мне жизнь, то ли та, что даровала разум. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, отец надел на меня белую тогу и предложил на выбор две карьеры: гражданскую и военную. Я выбрал войну. Я не был ни глуп, ни ленив. Влияние отца и его богатство тоже значили немало, и к тому времени, когда Отец римского народа и его Император разгневался на царя Эвхинора и послал свои легионы в землю Камней, я командовал конной турмой[3] и имел надежду на должность легата.