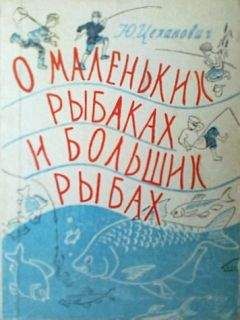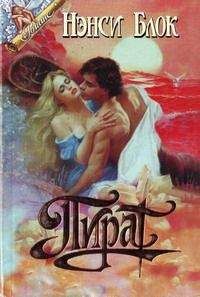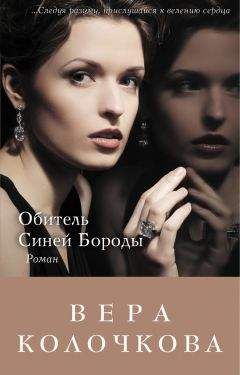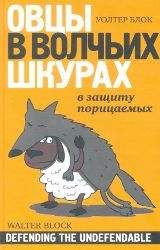Женщины обернулись.
— Откуда шагаете?
— С реки.
— А реку-то вашу как звать?
— Москва-река, — мягко выговорила молодая и так сверкнула зубами, что Кучко, втянув голову в плечи, только усмехнулся криво и беспомощно.
— Свои, — повторил он задумчиво. — И говорят по-нашему. Небось, тоже, как Ходота, деревянным болванам молятся, окаянные бабенки! Стыда в них нет, вот что, — заключил он, собирая толстую кожу на лице в деланно суровые складки.
— Ты давеча про Ходоту сказывал, — вымолвил с расстановкой Мономах, — как он своих людей в чужие края продавал, а меня каждое твое слово точно рогатиной в сердце толкало. Ты говоришь: свои. Нет! Пока в такой тьме ходят, они нам не свои и мы им не свои. Ты говоришь: стыда в них нет. А я говорю: не им, а нам стыдиться надобно. За их темноту мы в ответе. В самом сердце нашей земли живут нашей крови люди, мы их леса со всех сторон, как медвежье логово, заломали, а своими сделать не умеем!
"В самом сердце нашей земли" — эти слова вырвались у Мономаха нечаянно, сгоряча. Он резко оборвал речь, поймав себя на том, что, помимо воли, выговорил вслух как раз то самое, чего весь этот день и все предыдущие дни не решался додумать до конца.
Сердце нашей земли!
Но ведь в глазах Мономаха таким сердцем всегда был Киев. Как кровь со всех концов тела сбегается к сердцу, так к Киеву должны тянуть все волости Русской земли, только от Киева ожидая руководства и защиты. С этим убеждением Мономах родился и никогда не допускал мысли, что можно сомневаться в его справедливости.
А сомнения все-таки вкрались в душу, и бороться с ними делалось год от года все труднее. Русские волости росли, крепли и становились всё менее податливы на те обильные жертвы людьми и деньгами, каких требовал от них Киев. Мономах понимал, что, отказавшись от этих жертв, Киев захиреет, а домогаясь их, обречет на захирение волости. И тем не менее Владимир Всеволодович продолжал стоять на своем. Однако, вопреки всем его огромным и умелым усилиям, кровь не приливала, а заметно отливала от сердца. Оно билось все слабее. Вот в этом-то и не хотел признаваться упрямый стародум.
Он пытался внушать себе, что Киев обессилел лишь на время, что больше всего крови брали у него половцы, а с ними сейчас как будто покончено. Но уязвленная совесть не успокаивалась.
Киев, с сотнями церквей, с десятком рынков, с каменными дворцами, был одним из крупнейших, красивейших и просвещеннейших городов тогдашней Европы. Он соперничал с Царьградом. О нем много говорили и писали на Западе — с восхищением, с завистью и с тревогой.
Основой его военной силы была помощь подвластных ему княжеств, а главным источником богатства была мировая торговля. В руках киевского князя, или русского короля, как величали его иногда на Западе, был южный конец самой короткой, самой удобной, самой безопасной и потому самой оживленной водной дороги, которая соединяла Балтийское море с Черным, север Европы — с югом, Скандинавию — с Византией и Римом. Другим концом той же дороги владел Новгород. Многовековые старания восточного славянства спаяться в единое русское государство увенчались успехом только после того, как эти два русских города, подчинившись одной власти, вступили в военный и торговый союз.
В те давние уже годы, когда Мономах, еще молодой, совершал зимние походы на Ходоту, в Западной Европе произошло событие, важность которого современники поняли не сразу. Византийский император, доведенный до отчаяния набегами норманнских мореходов и азиатских кочевников, кидался во все стороны с мольбами о помощи и громогласно заявлял о своей готовности отдаться в руки западных латинян, лишь бы спасли его от варварского ига. От этого ига его спасли не латиняне, а друг и родственник Мономаха, русский князь Василько. Но латиняне не преминули тем не менее воспользоваться малодушием перепуганного императора. Предприимчивые правители Венецианской республики выговорили у него такие неслыханные торговые льготы, о каких никогда не грезили даже и природные византийские купцы.
Четырнадцать лет спустя, когда Мономах был всецело поглощен борьбой с вотчинными происками своих родичей-князей, понуждая их жить в едино сердце, за рубежом Русской земли разыгрались новые, еще более значительные события: первый крестовый поход, изгнание мусульман из Палестины и образование латинскими феодалами Иерусалимского королевства.
Владимир Всеволодович, шурин германского императора, двоюродный брат французского короля, тесть притязавшего на византийский престол греческого царевича, тесть венгерского короля и сват короля шведского, был превосходно осведомлен обо всем происходившем в Западной Европе. Тамошние дела были для него свои дела. Рассказы русских путешественников, успевших побывать в только что освобожденном Иерусалиме (а в их числе была и родная сестра Мономаха), отравляли душу тяжелыми предчувствиями.
Предчувствия не обманули.
Пути мировой торговли пролегли по-новому: передвинулись на запад. Чем раньше были Нева, Волхов, Ловать и Днепр, тем стали теперь Рейн и Средиземное море, утраченное немощной Византией и очищенное от разбитых крестоносцами сарацинов. Чем прежде был Киев, тем делалась ныне богатевшая не по дням, а по часам Венеция.
Днепр не обмелеет. Киевские горы не осыпляются. Зеленые дубравы не иссохнут. Не переведутся люди. Но старейшинство Киева падет и не восстанет. "Не воскреснет!" Мономах дернул тонкой бровью, вспомнив послеобеденный дурной сон.
"Пусть так, — размышлял он, — но как же все-таки взбрело на ум, как поворотился язык назвать сердцем Русской земли эту вятическую глушь? Уж если Киеву скудеть, так постоят же за целость и честь великого отечества другие древние, славные и сильные еще города: Смоленск, Новгород…"
Тем временем княжеская запыленная дружина уж втянулась в вечереющее село. Владимир рассеянно смотрел по сторонам.
Румяные под закатным лучом срубы мало отличались от тех, к каким привык его глаз под Новгородом и под Смоленском, какие видел три дня назад под Суздалем.
Те же высокие шатры взъерошенных соломенных кровель, те же черные языки печной копоти над низенькими дверками и над крохотными оконцами. Так же порасщелились на солнце да на ветру рубленные в угол сосновые венцы. А из пазов между ними такими же белыми космами свисает болотный мох.
Женщины сошлись у колодца с такими же, как там, коромыслами и примолкли, заглядевшись на проезжих. Знакомым движением руки заслонили глаза от низкого солнца. Заметалась промеж конских ног бестолковая курица, и на шершавую еловую жердину забора с подтеками побелевшей смолы тяжело вспорхнул расписной петух. А над его кровяным гребнем ветка калины вынесла из огорода сливочные шапки горьких своих цветов.