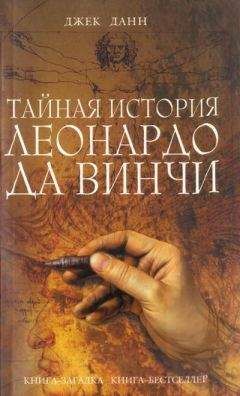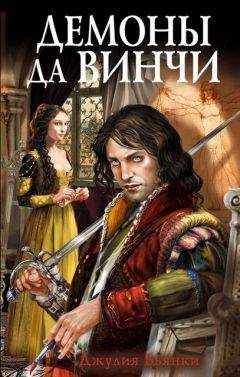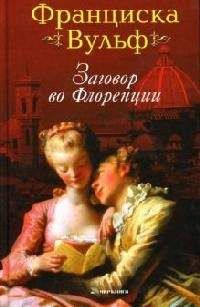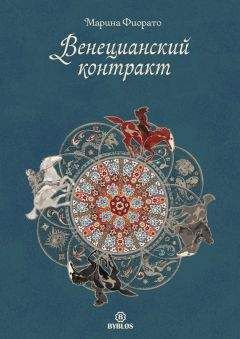Как много раз прежде, Леонардо вошел в собор, где хранились сокровища его жизни. Маэстро Тосканелли хорошо обучил его, ибо теперь, в конце жизни, у Леонардо был безопасный приют — воспоминания, где он мог затвориться от боли и страха смерти. Давным-давно Тосканелли посоветовал ему возвести в своем воображении храм, чтобы хранить образы — сотни, тысячи образов; где будет все, что Леонардо пожелает запомнить.
Храм его опыта и знаний, равно святых и греховных.
Так Леонардо научился не забывать. Он ловил ускользающее, эфемерное время и удерживал его здесь — все события его жизни, все, что он видел, читал или слышал; вся мука и отчаяние, любовь и радость были тщательно и аккуратно разложены по полочкам в колоннадах, часовнях, ризницах, двориках и переходах.
Леонардо прошел под большими рельефами и терракотовыми медальонами (каждая фигура и линия — ключ к памяти) и через главные ворота вошел в северную башню. Перед ним, преграждая путь, стояла бронзовая трехголовая статуя, изображающая начало мироздания. Одна из голов принадлежала его отцу: крепкий подбородок, орлиный крючковатый нос, выражение грубой ярости на лице. Вторая, рядом, была головой Тосканелли — спокойные, мягкие черты, глубокие усталые глаза, сочувственно глядящие на Леонардо. А третий лик был ликом Джиневры де Бенчи — самым прекрасным из всех, что когда-либо видел Леонардо. В юности Леонардо пылал к ней страстью и даже собирался жениться. Но это было до того, как его обвинили в содомии и публично унизили.
У Джиневры были те же прикрытые тяжелыми веками глаза с пристальным взглядом, что и у Изабеллы д’Эсте, с которой Леонардо писал Мону Лизу, — но лицо Джиневры было юношески округлым, и его обрамляли кудри. Однако это был ее рот, с надутыми, но плотно сжатыми губками, придающий ей одновременно чувственно-земное и возвышенное выражение. Как и в жизни, глаза ее отражали сияние рыжих волос. Она выглядела словно Ева, изгнанная из райского сада.
Леонардо смотрел на лики овеществленного знания, сюжет, известный любому студенту университета по «Жемчужине философии» Грегора Рейха. Хотя Леонардо никогда не учился в университете, книгу он читал и помнил фронтиспис, на котором изображались три ветви философии: materia, что была природой или материалами, mens, или свойства разума, и caritas, что означало любовь. Все исходило из этих трех голов, которые безучастно смотрели на него всякий раз, когда он заходил в их придел за толикой-другой информации.
Но теперь прекрасная скульптурная голова Джиневры медленно ожила, выразительное лицо стало подвижным, высокоскулые щеки зарделись, а глаза выблекли до того неестественного цвета, какими он некогда написал их. Она повернула голову, взглянула на него и улыбнулась. И в ее лице и глазах Леонардо увидел отражение себя, каким он когда-то был: эгоистичный, чувственный, думающий лишь о себе, не способный любить. Она была жестоким зеркалом для старого кающегося грешника.
Когда Леонардо подошел к ней, ожили головы его отца и Тосканелли.
— Что тебе здесь надо? — сурово спросил отец, точно он все еще был нотариусом, даже в смерти предостерегающим клиентов.
Пораженный вопросом, Леонардо не ответил. Статуя двинулась к нему, перегородив проход.
— Здесь для тебя убежища нет.
— Нет убежища для содомита и убийцы, — сказала Джиневра, и глаза ее блеснули, точно налитые слезами.
— Я не был содомитом! — Леонардо почти кричал.
— Это не имеет значения, — спокойно сказал Тосканелли. — Память — для живых.
— Ты не можешь находиться здесь, — сказал отец. — Тебе остался лишь ад.
— Мы проводим тебя туда, — сказала Джиневра.
И создание потянулось обнять его, выступив из красновато-коричневой тьмы входного портала.
Леонардо отшатнулся, едва избежав каменной длани, а потом скользнул мимо этого чудища, принявшего облик тех, кого он больше всего любил — и больше всего ненавидел.
Он пробежал через нартекс и нырнул в неф[6], а из него через приделы — в сводчатые залы и бронзово-золотые врата, что вели в крестильни, где находился его опыт, его книги и все те, кого он встречал и знал. Он бежал залами и коридорами, по часовням и хорам, что были куда большим, чем просто повторяющиеся обрывки сведений, которыми он некогда загружал память, — здесь призрачно витала сама его жизнь, холодные стены и морозные иглы страха, борозды возвышенной и чувственной любви; молельни безопасности и чистых сверкающих размышлений и темные палаты ненависти, честолюбия, вины.
Справа от него выход вел в галерею, и он вздрогнул, понимая, что это. Он придумал мавзолей, прекраснее всех, созданных прежде, и, как большинство его проектов, мавзолей этот так и не был построен. Он знал там все террасы, и двери, и погребальные залы, в каждом из которых хранилось по пяти сотен урн, а каждый склеп был сделан как этрусская гробница. Переходы напоминали лабиринты пирамиды Хеопса или сокровищницы Атрея в Микенах.
Когда Леонардо торопливо шел по холодящему подошвы мраморному полу, он миновал темную комнату, куда не мог заглянуть, осознав, что в одном из созданных им саркофагов он найдет себя. Открытие обдало его холодом, но не удивило, потому что он знал, какой из проходов ведет к выходу из гробницы — вниз по ступенчатым террасам и наружу, на улицы Флоренции, в ясный прозрачный свет города его юности. Быстро, нигде не задерживаясь, шел Леонардо по собору, на постройку которого ушла вся его жизнь, но в этих последних залах он не мог не остановиться. Как может он разорвать с ними связь — даже сейчас, в миг смерти? Он заглянул туда — и увидел ангелов, роняющих с высот огонь на войска. Он увидел самого себя, занимающегося любовью перед портретом возлюбленной, и ангелов, следящих за ним с потолка зала пыток, когда он приносил в жертву друга. Он смотрел на свою великую фреску «Тайная вечеря» и видел себя плывущим сквозь облака горних небес на воздушном шаре вместе с рабом калифа, видел себя летящим и падающим в машинах собственного изобретения; а внизу, на просторах морей, он видел прикованных к веслам, тонущих невольников; он видел, как сам дышит под водой. А за морями, на полях сражений его машины стреляли, пиры пились и поражали солдат. И в самом центре картины, как в волшебном фонаре, он увидел себя, давящего кулаками вырванные у трупов глаза; и призраки рая, отражавшиеся в гаснущих перед смертью женских очах.
А потом Леонардо нашел и распахнул бронзовые двери, что вели наружу, и стоял на ступенях террасы в мягком, почти синем свете, что нисходит перед сумерками. И вдыхал прохладный ароматный ветер, глядя на Флоренцию, простершуюся внизу.